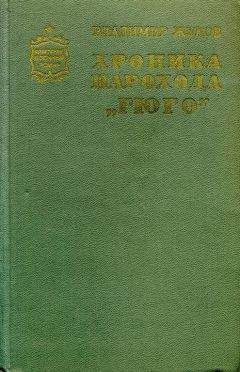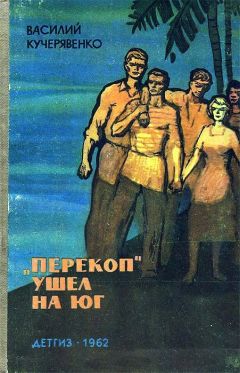Но все это я узнал потом, много позже, и смог представить себе, как происходило медоу-хейтское следствие. Пока же я сидел взаперти и пришел к выводу, что игра моя с Жоговым проиграна и надо теперь как-то спасаться самому. Под сонное бормотание дождя за окном мне померещилось, что пароход может вообще уйти и я навечно останусь здесь. («На чужбине. Позабыт-позаброшен».)
И вдруг дверь отворилась. Полисмен — какой-то другой, не Мартин — смотрел свирепо, как настоящий тюремщик. Жестом приказал выйти я шел за мной по коридору. В руке у него совсем уж по-тюремному позвякивала связка ключей.
Шериф сидел за большим письменным столом и скорее нервно, чем от избытка уверенности, покачивался в огромном, обтянутом кожей кресле. Я, кстати, тоже оробел, потому что в комнате все выглядело официально, строго, особенно государственный герб на стене, над головой шерифа, прямо зал суда какой-то. Возле окна навытяжку стоял тот переводчик с цыплячьей морщинистой шеей, казалось, готовый огласить приговор, а сзади, в полуметре от меня, словно бы на изготовку — палачом — мой конвоир.
— Вы повинны ответить на ряд запытань.
Наверное, они обо всем уже договорились, потому что шериф молчал, покачиваясь в кресле, говорил переводчик. И, может, оттого, что говорил он по-украински, нисколько не заботясь, понимаю я его или нет, мне стало спокойнее, я даже помолчал немного, специально помолчал перед тем, как сказать, и как можно независимее посмотрел на шерифа, а дотом на герб в виде орла с какими-то латинскими надписями.
— Я не совершил ничего предосудительного против законов этой страны, — и еще помолчал, ожидая, пока старик с цыплячьей шеей нашепчет перевод тому, в кожаном кресле. — Я не нарушал здешних законов и не обязан отвечать ни на какие вопросы. Никто не имеет права меня задерживать.
— Такой порядок, — возразил старик, терпеливо выслушав меня, и опять, не посоветовавшись с шерифом, пояснил: — Инакше не можно.
— Отказываюсь!
Шерифу, наверное, надоело слушать наши переговоры, и он рявкнул что-то, я не понял. Стоявший за моей спиной полисмен тотчас кинулся в угол и уселся, гремя стулом, за столик, на котором стояла пишущая машинка.
— Юр нейм? — Теперь уже он рявкнул, торопливо вставляя под валик зеленую карту.
— Левашов. Сергей Левашов. — Слова как-то сами собой говорились. Я покорно сообщил год своего рождения, род занятий и как называется пароход, на котором прибыл из-за океана, чтобы торчать здесь, в этом идиотском Медоу-Хейтс.
Полисмен с треском вытащил из машинки карту, подбежал с ней к столу шерифа (теперь карта была вставлена в какой-то металлический трафарет с вырезами) и, не спрашивая меня, схватил за руку. Ловким, прямо шулерским движением притиснул мой палец к подушечке с черной краской и быстро ткнул в прорезь трафарета.
Через минуту на зеленой карте, по обеим ее краям, красовались отпечатки всех десяти моих пальцев. Я даже головой покачал не столько от удивления, а, скорее, от восхищения таким редкостным умением.
Шериф, довольный, живее прежнего закачался в кресле. Долго шептал что-то переводчику, ласково, по-отечески поглядывал на меня.
— Вин каже, що ваш приятель не бажает повертаться на шип — как это по-российски? — на пароплав... Да, не бажает... Може, и вы тэж згодны з цим? Адже вы спильно, ну разом утиклы з Калэмы. Шериф разумев, що наши краины — союзники против Гитлера; он захопленный мужностью вашего народа, но, знаете, всякое трапляется...
Я не очень понял, при чем тут восхищение мужеством нашего народа, если мы с Федькой «разом утиклы». Ничего себе вместе; как же, заранее договорились и сухарей в дорогу насушили!
— Чепуха, — сказал я, глядя не на главного полисмена, а на старика украинца. — Вы, скорее всего, давно уехали из нашей страны; еще, я думаю, до революции. Вам, конечно, трудно понять...
Глаза старика неожиданно зло, раздраженно сверкнули.
— А я ничого и не повинен розумиты! Кажный мае свой бизнес. То справа полиции. Я тилыш тлумач!
— Тлумач... тильки... Удобная позиция. Ну что ж, тогда объясните своему шефу как следует то, что я уже говорил его подчиненным, сержанту Мартину, например. Ни с какого парохода мы не убегали, мы были по делу на берегу, случайно сели не в тот автобус. А потом моему спутнику стало плохо. Нервный припадок. Внезапно. Эпилепсия, знаете? Падучая. Шизофрения. Я сам вышел на дорогу просить помощи, я ничего не скрывал.
Старик монотонно перетолковал мой монолог шерифу, выслушал его таинственный шепот и опять монотонно, равнодушно, перекатывая кадык, ответил:
— Доктор сказав, що ваш приятель здоров. Помиркуйте. Американский лоу — как это? — закон може вам допомогаты. Шериф сам того не зробить, але може буты посредником.
Шериф сделал знак полисмену — тому, что снимал отпечатки пальцев. Загрохотала дверь, и в комнате появился Жогов. Грязный макинтош он снял, голова была перебинтована, наверное, тем доктором, что осматривал его; лицо Федьки хранило выражение, как мне показалось, среднее между наглостью и растерянностью, и смотрел он не на меня, а на шерифа — выжидательно, не мигая.
— Вы подтверждаете свое решение? — Это ему без переводчика, по-английски.
— Иес, — сказал, торопясь, Федька и кивнул, будто благодарил шерифа.
Ужасно противно было. И, не ожидая перевода, я сказал тоже по-английски, как мог:
— Наш пароход может уйти в море. У нас там несчастье. Сегодня, сейчас похороны одного матроса.
— Похороны? — Тот, со звездой, привстал в кресле. — Похороны вас волнуют? А ваши собственные дела? Вы ведь чуть не убили человека!
Финка, Федькина финка, которую отобрали у меня, звонко пристукнув рукояткой, легла на стол. Шериф довольно расхохотался, а следом за ним — переводчик и полисмен.
— Замолчите! — крикнул я. — Выслушайте меня, слышите! — И потом, когда стало тихо, прибавил: — У нас свои дела. Они вас не касаются. Но, если вы уж так хотите, я скажу. Скажу! Этот человек, — я показал на Жогова, — этот человек нечист на руку. Он вор!
Не знаю, какой у меня был вид, когда я все это говорил, но старик переводчик мгновенно преобразился, стал серьезным, сгорбился, быстро забормотал. Он успел сказать свое, а вот шерифу ответить времени не осталось.
Было хорошо слышно, что к дому, с той стороны, где шоссе, подъехала машина. Резко хлопнули дверцы, донеслись голоса, в коридоре затопали, и решительно, покорная властному толчку, открылась дверь. Шериф, хмурясь, приподнялся в своем черном покойном кресле.
— Консул Советского Союза! — сказал вошедший привычно, как бы наперед уверенный, что даже не очень громко сказанные эти слова будут услышаны всеми. — У вас здесь случайно (я знал это слово по-английски — «куайт бай чанс» — случайно) оказались два человека с советского парохода «Виктор Гюго». Он скоро уходит в море, и я приехал, чтобы забрать этих людей, доставить на корабль. — Быстрым движением говоривший вынул из кармана какое-то удостоверение и показал шерифу. Стало тихо, так тихо, что было слышно, как шелестит по земле, по листьям клена под окном долгий, все не прекращающийся дождь.
Я оглядел вошедшего. Он был полноват, хотя еще довольно молод, с гладким, лоснящимся от быстрой ходьбы лицом. Плащ на нем был мокрый, хотя он, судя по всему, только что вылез из машины, и шляпа, сдвинутая на затылок, тоже потемнела, края полей слегка оплыли. Сзади консула стоял еще один человек, тоже в плаще, но сухом, и лицо у него было — сразу угадаешь — курносо-русское, широкое.
— М-м, — отозвался шериф, — вы сказали «случайно оказались», но дело обстоит не совсем так... Этот человек, — он показал на белую, забинтованную федькину голову, — этот человек, мистер Жогофф, заявил, что не имеет намерения возвращаться на свой корабль, и я как выполняющий волю американского закона...
— Простите, — перебил консул. — Американский закон тут ни при чем. В данном случае затрагивается Уголовный кодекс РСФСР...
И вот тут с Федькой случился уже настоящий припадок. Он съежился, точно получив удар в живот, завыл, скользя вдоль края обширного шерифова стола.
— Ка-ко-ой Уголовный ко-о-декс! Не вор я, не убий-ца-а! — И все еще скрюченный, вытянул с мольбой руки к старику украинцу: — Переведи ему, батя, начальнику твоему, не могу я сам... Пусть защитит. Дело ведь пришивают, напраслину-у-у!
— Не вор? — закричал я. — А кто украл профсоюзные деньги? Сто двадцать семь долларов. Вот полюбуйтесь!
Я не видел лица консула, не знал, понимает ли он, что я ору, но мне казалось, что мы с ним заодно. Кинулся к Федьке, путаясь в его сопротивляющихся руках, проник за пазуху, и сердце упало на мгновение, когда пальцы ощутили не деньги, а что-то другое... Я вытащил узкий конверт с адресом, написанным на машинке по-английски, и в отчаянии швырнул его на стол, а потом рванулся в другой боковой карман Жогова и, раздирая пиджак, вырвал наконец тонкую пачку, рассыпал зеленые бумажки по столу, начал их считать.