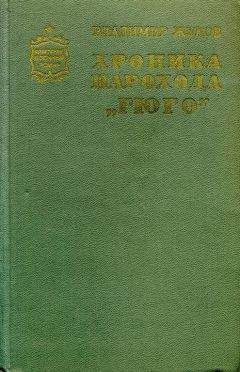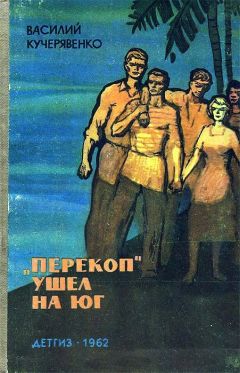Левашов следовал прямой, как на воинском параде. И вот странно, удивился Огородов, он его впервые видел таким. Решил, что оттого и хорошо стало на душе — от легкого Сережкиного вида, от важности консула, оттого, что и Федька обнаружился.
И тогда Огородов вспомнил об Алевтине, брошенной в каюте; вспомнил и кинулся к себе — позвать ее, вытащить на палубу, чтобы и она могла все рассмотреть Будто бы в силах была повториться, как в кино, только на другом сеансе, сцена возвращения.
Прибежал, а в каюте пусто. Словно и не было тут Алевтины, и слез ее, и неожиданного признания.
Калэма быстро исчезла из глаз. Промелькнуло устье Колумбии, остался позади плавучий маяк, возле которого сдали лоцмана, и перед «Гюго» открылся океан.
Погода заметно свежела. Не шторм еще — так, ветер, волнение. Но Стрельчуку хватало. Посидел он на корточках возле паровоза, поглядел и сердито высказался по адресу американской фирмы, которая придумала ловкие крепления — один угольник приварен к палубе, другой — к локомотиву, а посередине талреп — два винта, пропущенных в скобу.
У берега талрепы держали прочно, ничего не скажешь, а тут, видел боцман, при каждом наклоне от качки колеса паровоза то от одного рельса отставали, то от другого. Чуть-чуть отставали, да ведь и качели не сразу ввысь взлетают; только потом, когда разгуляются, — поди удержи!
Стрельчук велел матросам притащить ломы, подкрутить талрепы. Обошли оба состава с носа до кормы, вернулись на бак — и начинай снова: танцуют паровозы на рельсах!
Реут тоже исследовал неприятный факт. Заключил:
— Шплинтов нет на скобах. Качка, вибрация, вот они и раскручиваются. Дели матросов на две бригады, боцман, Будем подвинчивать круглые сутки.
С той минуты Стрельчук костил фирму не переставая:
— Вот химики! Закрепили! Гляди, Микола, дырки вправду есть, а чек нема.
— Может, забыли? — предположил Нарышкин.
— Цыц, умник!.. Фирма химичила, ей в море не идти.
Гроши экономила.
— Сколько тут на железках сэкономишь! — не согласился Никола. — Ясно, забыли. Надо курс менять. Вишь, как мотает уже. А ну как повалит паровоз...
— Ладно каркать, крути!
Но боцман сам с тревогой поглядывал на волны, бежавшие почти вровень с бортом глубоко осевшего, тяжело груженного «Гюго». Собирались сутки сэкономить, да, видно, придется поперек волны идти, чтоб не раскачивать до страшных углов палубных пассажиров...
В штурманской Реут испытующе глядел на барограмму, начавшую медленно сползать вниз. Полетаев тоже посмотрел, потер покрасневшие, усталые глаза, положил циркуль на карту...
— Потерпим еще. Сколько можно потерпим. Начинайте, Вадим Осипович, усиливать крепление палубного груза.
Это было сказано ночью. А с утра, как только развиднелось, боцманская команда принялась за дело. С тех пор целую неделю толком и не ложились.
Начали с носа — уже обдаваемые волной, уже одетые по-штормовому. Через рамы, котлы, тендеры тянули тросы, ставили распорки из бревен. И все равно — ночь не ночь, Стрельчук распахивает двери кают: «Подрыв! Опять гуляет железная дорога!»
Уже слышались разговоры — круто к волне идем, поперек надо; бог с ними, с сутками, с экономией. Только океан вдруг всех удивил, остепенился, потянулся гладкими серыми горбами.
Боцман разрешил матросам спать вволю и сам к обеду и ужину не вышел. А проснулся и ахнул: за иллюминатором — чистое молоко, и гудок наверху плачет. Туман!
Поймал матроса с вахты, бежавшего на корму, к счетчику лага, спросил, сбавили ход или нет, и, услышав, что нет пока, закачал в тревоге головой.
— А пролив, — поинтересовался, — далеко?
— Вроде завтра подойдем.
Как его проскочили — Первый Курильский пролив, как не вылетели на камни, ведал один Полетаев. А за мысом Лопатка, уже в Охотском море, туман словно обрезало: солнце, ни облачка. И ветер подул в корму ровный, упругий, как будто в награду за бессонные ночи, точно специально для ускорения хода.
И пошли ясной погодой до самого Приморья, до его крутых, лесистых берегов. Тут бы и отдохнуть на легком деле. Да ведь как опутывали локомотивы, так и распутывать надо; в стальных кружевах их на берег не переправишь! И тогда собрал Маторин комсомольцев и повел наверх, к капитану. А тот пригласил партийцев, членов судкома, и такая теснота создалась у капитана в каюте, что предложили перебраться вниз, в столовую. Но не перебрались. В тесноте — не в обиде, да и недолгое вышло собрание.
Прослушали еще раз, что Маторин предлагал капитану, и не один подумал: молодец парень, не бросал слов на ветер над могилой Андрея Щербины.
— Если, — говорил Сашка, — капитан примет такое решение, что можно паровозы заранее раскрепить, если прогноз погоды позволяет, то мы, комсомольцы, объявляем себе фронтовой аврал и призываем всех, кто свободен от вахты, хоть понемногу нам помогать. Потому что паровозы хоть и в шторм, а неделю крепили, а раскреплять день, чуть больше дня надо. Время стояночное сократим.
Выслушали Маторина и согласились без прений, хотя его слова в душе у многих не могли не вызвать целую бурю чувств. Ведь почти два месяца во Владивостоке не были, и прошлая стоянка получилась еще через больший промежуток, семейные своих жен и детей не видели, считай, полгода. А тут время экономь, не десять, скажем, а пять дней в родном порту стой. И из них два — пожарная вахта, когда ты и свободен, а с борта уйти по уставу не можешь. Одесситам, балтийцам, ребятне бездомной — им что, в кино лишний раз не сходят, не выпьют. А владивостокским каково?
Но такое — в мыслях или накоротке с приятелем, со вздохом. На людях, когда все вместе, личные горести что — ясно ведь, что ось, на которой земной шар вращается, не через дом твой проходит, а где-то в другом месте, поважнее...
Снимали с паровозов, скручивали в мотки ржавые стальные змеи, и рядом с матросом возился кочегар — хоть недолго, а помощь. И шли с двух концов, с носа и с кормы, как бы соревнуясь, двумя партиями. Когда миновали бухту Ольга, предвозвестницу Владивостока, когда на мостике уже похаживал лоцман, из шести паровозов пять стояли чистенькими.
А Маторин разошелся, командует: берись за последний! Огородову даже жалко стало боцмана. Услышал, как Стрельчук бурчал на ходу: «Скоро всякий раз сходки устраивать будем, когда на новый курс ложиться». Это он к тому, понял электрик, что, мол, и так, обычным приказанием старпома да его, боцмана, попечением управились бы с креплениями и вообще нечего-де подменять дисциплину энтузиазмом.
Что ж, рассудил Огородов, может, боцман отчасти и прав; может, и так бы успели, без аврала, нормальным манером. Только не всегда работа людям для прямой и вещественной выгоды нужна!
Вышли на рейд. Вроде шабаш, прибыли, а на рейде судов видимо-невидимо, и все ждут места для разгрузки. Думали, и у «Гюго» такая судьба, ан нет! Двинули, немного постояв, с рейда прямо к двадцать восьмому причалу, почти к самой проходной порта, с кратчайшим выходом на главную улицу города.
Оттого и швартовались лихо. Кое-кого уже отпустили на берег, а те, кто остался, жались к правому борту, обращенному к бухте. И никто — ни боцман, ни механики — не рассортировывал праздную толпу по текущим работам.
А все потому, что шел к «Гюго» через тихий и блестящий Золотой Рог плавучий подъемный кран, и выпала крану честь завершить трудовой аврал — снять паровозы с палубы.
Работа, знали, предстоит ответственная. Тут грузчик особый нужен, даже матросов не приглашали. Да как уйдешь с палубы, когда каждый паровоз тобой вроде вынянчен?
Ферма крана повисла над палубой, перелиновала небо на треугольники, квадраты и решетки, и оттуда, с вышины, свесился блок — стотонный, в рост человека, на десяти тросах.
Медленно идет блок к паровозу. А внизу суета. Стропят паровоз, подводят тросы под раму. Береговые стараются, а пароходные — пуще: дергают, тянут.
Закрепили блок. Орут, чтоб разбегались, а на паровозе — Никола Нарышкин. Шугают его, как прокаженного.
Вздрогнул паровозище. Приподнялся передними колесами-бегунками над фальшивыми палубными рельсами, а потом и задние отпустил, повис в воздухе и ползет все выше, выше — к треугольникам и решеткам.
Ферма тронулась вбок, к причалу, стала снижаться, и паровоз поплыл через борт и повис над землей, над бетоном доброго, близкого к проходной двадцать восьмого причала. Еще чуть — и встанет на настоящие, земные рельсы...
И вдруг увидели, как из паровозной будки выбегает человек. Выбегает и лезет но круглому боку котла к сухопарнику, где укреплен медный свисток. Никакими правилами это не предусмотрено — находиться на паровозе, когда тот застроплен и висит в воздухе; строжайше запрещено, потому что опасно. Но человек лезет, хватаясь за строп, идущий к блоку, и в руке у него красный флаг, вернее, палка с прибитым к ней кумачом, и он втыкает свой самодельный флаг куда-то на сухопарник, и вытягивается во весь рост, и торжествующе машет рукой.