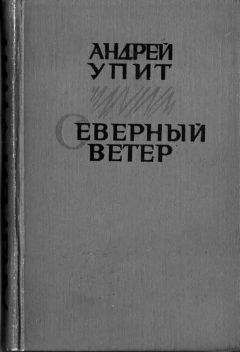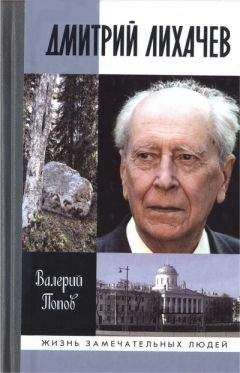До завтрака очесывал лен и Галынь. Теперь его гребень, по самую косу засыпанный в куче семян, бездействовал. Для скирдования Галынь воткнул в землю еловые верхушки и, положив на них две перекладины, соорудил соломенный настил, на котором равномерно рассыпал влажные льняные головки. Конечно, он умел делать и новомодные стеллажи из ошкуренных жердей, со шпеньками до самого верха, но за них он не ручался. На обыкновенных сучковатых он так сушил, что даже в большие дожди, когда все насквозь промокало, и то не оказывалось ни одной заплесневелой головки и на пуру льна не набралось бы и пяти серых семечек.
Первый день Осиене нагибалась довольно проворно, по до своих знаменитых девяти сотен горстей так и не дотянулась. Она совсем притихла, и напрасно девушки ждали от нее увлекательных рассказов о том, как раньше работали, о волостной старине, о своих девических днях. Ей ведь столько пришлось перевидеть, а еще больше наслышаться от отца и матери, которые дергали лен еще на барщине и молотили в помещичьей риге. Ни одной девушке не приходило в голову в чем-либо усомниться или заспорить: Мара всегда говорила мерно, неторопливо, отчеканивала каждое слово, чувствовалось, что она ничего не выдумывает, не привирает, как Мартынь Упит. Работать она горазда, работница отменная — даже завистливая Либа и хвастунья Анна беспрекословно признавали это. Как раз на самой тяжелой работе Осиене и распалялась и тогда часто вскидывала голову, обводила всех вызывающим взглядом: нет ли тут таких, кто думает, будто жена испольщика с чем-нибудь не справится? И частенько она затягивала песню — голос сильный, молодой и звонкий, как свирель Маленького Андра на пастбище. «Стою я на горе высокой и на море гляжу…»[42] Она на самом деле стояла на высокой горе, только моря вокруг не было. Впереди зелено-рыжеватое льняное поле, далее бледно-желтые ржаные копны Озолиней, и по всему небосклону, до самого Айзлакстского леса, пушистые клочья облаков. Что-то в этой меняющейся многоцветной картине напоминало прежние времена. Осиене запевала: «Молотися сам собой, хлеб господский…», а потом: «Ой, немец, чертово отродье…»[43] Хозяйка, проходя по двору Бривиней, поджимала губы: взрослые люди, а раскричались на горе, словно дети, даже Маленький Андр у реки подтягивает. Но Ванаг поглаживал бороду и улыбался: пусть вся волость слышит, что в Бривинях люди сыты и петь умеют…
Так было в прошлом году. Но теперь — даже в первый день — Осиене не запела и едва поспевала за другими. Когда она разгибалась, чтобы перевязать на колене сноп, губы ее плотно сжимались; потускневшие глаза в темно-синих впадинах не засматривались на четырех аистов, усевшихся на ржаных копнах, они глядели куда-то внутрь. По временам она незаметно прикладывала к животу ладонь — тогда и Лиена опускала руки: и за себя стыдно, и тут еще эта Звирбулиене, хоть бы перестала болтать про своего сына и его пурвиету возле станции, да сказала бедняжке Осиене, чтобы шла домой и прилегла. Но эта неряшливая, жадная старуха перестала хрюкать только в субботу перед самым обедом, когда испольщица, застонав, повалилась на груду снопов. Старуха с Либой повели ее домой через луг у ручья, на другую горку; немного спустя хозяин погнал Тале за отцом на остров — пускай запрягает чалого и скачет на станцию за Тыей Римшей.
Старший батрак Бривиней сваливал в мочило лен, который Большой Андр подвозил с поля. Возы были чуть повыше головы, все одной высоты, чтобы как раз выходил берковец. Двенадцать берковцев рассчитывали собрать с первого поля, ну хотя бы одиннадцать, — однако уже ясно было, что больше десяти не выйдет: весенняя засуха подпортила, лен получился не такой высокий.
Стоя по пояс в мутной черной воде, Мартынь выравнивал сваленный с воза лен, чтобы снопы не стояли торчком и лежали в воде ровным слоем. Подняв телегу, Андр потоптался на месте, разбирая вожжи медленнее и тщательнее, чем это требовалось. У Мартыня с самого утра блестели глаза от затаенного смеха — видимо, хотел что-то рассказать и еле удерживался. Андр прямо сгорал от любопытства, но из гордости не показывал этого: после обеда он вовсе рассердился и, свалив очередной воз, уже не стал ничего ждать, а, с равнодушным видом стоя на телеге, погнал лошадь прямо по кочкам и рытвинам, попробовал даже свистеть, да что-то не получалось.
К вечеру Андр перегнал Брамана, распряг коня и пошел помогать Галыню — мокрое семя сегодня же нужно разложить на снопы, хотя и в темноте, а то за воскресенье все сопреет. К вечеру два мочила были доверху полны, снопы в них красиво сложены. Хозяин сам пришел посмотреть, — работа хорошая, ничего не скажешь. Вдвоем с Мартынем они поднимались по прогону в гору, оживленно беседуя и размахивая руками. Домашние чувствовали, что на завтра готовится что-то из ряда вон выходящее, но сколько ни думали, ни гадали, ничего узнать не могли. Допросили Маленького Андра. У него был тонкий нюх, но на сей раз и он ничего не знал.
У поленницы Мартынь Упит что-то загудел, хотя голоса у него не было и ни одну песню он не мог спеть верно. Но все знали, что это признак превосходного настроения, и понимали, откуда оно. Хозяин отдал Мартыню старые сапоги, и он был так счастлив и горд, словно ему коня подарили. У одного сапога отстала подошва, но он прибил ее маленькими гвоздочками. Давно не мазанные голенища побурели и стали твердыми, как деревянные. Он повесил сапоги за ушки на дрова, принес коробку из-под сардин, полную дегтя; заячьей лапкой как можно гуще смазал голенища, чтобы отмякли, иначе без ног останешься. Одного раза, конечно, мало, завтра надо смазать еще раз… Потом он подозрительно долго копался в углу риги, где стояли прислоненные к стене льномялки, скамьи для трепки льна, сани с подрезами, дровни для перевозки бревен и разная зимняя утварь. У Большого Андра чуть не заболели глаза, пока он старался разглядеть в темноте, что это там ищет Мартынь, но, ничего не поняв, махнул рукой и полез на клеть. Из дому его прогнали — мать лежала больная, и там, нарочно шумя и пошучивая, хозяйничала Тыя Римша. Даже отца и ребятишек отправили ночевать в людскую.
В воскресенье, еще не рассвело как следует, а Мартынь уже работал в хлеву. Еще раз вычистил скребницей лошадей, хотя на них не осталось ни пылинки. Одну за другой вывел во двор и, смачивая в ведре тряпку, начал мыть, — даже копыта с подковами обмыл. Вороные блестели и лоснились, в коляску самого Зиверса таких запрячь не стыдно. Блестели на солнышке у поленницы и смазанные еще раз сапоги. Встретившись в дверях, старший батрак и хозяин с улыбкой подмигнули друг другу.
В это утро в Бривинях впервые за долгое время не сзывали на молитву. Осиене только что перестала кричать в своей комнате. Осиса на минутку пустили к ней, и он вышел оттуда с мокрым лбом, смущенный, как мальчишка. Римшиене наливала горячую воду в ванночку, а хозяйка, нарвав крыжовника, варила кисель для роженицы. Анна с Либой собирались вместе в церковь — вчера вечером ходили украшать ее.
Около девяти часов утра Большой Андр вышел из клети и, надув губы, хотел пройти мимо старшего батрака. Но тот сильно толкнул его в бок.
— Ну, теперь увидишь одну штуку.
Сердито ворча, Лизбете повязала шею хозяина желтым шелковым платком Лауры. А он, смеясь, пристукнул о пол каблуками новых сапог со скрипом, надвинул на лоб картуз и засунул в карман книгу псалмов. Все обитатели Бривиней, кроме Осиене, собрались на дворе, прибежали запоздавшие дети испольщицы, по уши вымазанные киселем. Появился и Прейман со своей Дартой, будто их кто звал.
Наконец-то увидели, что за штуку готовили столько времени. Мартынь Упит выволок из-под навеса новые сани, у которых за зиму даже не сошла с подрезов ржавчина. Для сидения подложили два мешка — передний покрыли попоной, а на задний Бривинь велел Лауре постелить одеяло с ее кровати. Машку впрягли в оглобли, а большого вороного в пристяжку. Мартынь велел Андру и Галыню подержать лошадей, пока сам наденет сапоги. Хоть с трудом, но натянул, нога у Бривиня была значительно меньше. Голенища могли бы быть длиннее, один каблук совсем стоптан, но все же это была настоящая обувь, а не лапти. В складках еще блестел деготь, он сорвал горсть чернобыльника и вытер. Шел задрав голову, не в силах отвести сияющих глаз от своих лошадей.
Но хозяин позвал в комнату, и слышно было, как они долго возились у шкафчика. Расчувствовавшийся шорник оглядывал изумленных бривиньцев, будто сам придумал эту штуку. Вышел Мартынь, еще более самодовольный и гордый, чем до этого, схватил вожжи, вспрыгнул на кучерское место, вытянул руки и уперся ногами в головки, в ожидании пока господин Бривинь займет место на заднем сиденье.
Браман подал кнут, ему казалось, что в этой поездке без кнута не обойтись. Мартынь взял, но только для того, чтобы сейчас же небрежно отбросить его.
— Бривиньским лошадям кнут не требуется! — крикнул он, окинув всех взором победителя. И добавил еще громче: — Которые на рессорах, прочь с дороги, когда хозяин Бривиней едет! Но-о!