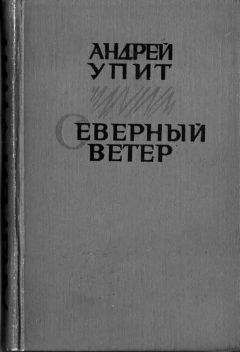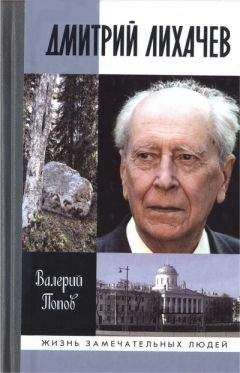Спокойно и чинно уселся Мартынь и сразу принялся разглядывать разукрашенную цветами кафедру. В большой толпе Мартынь всегда чувствовал себя неловко, а в особенности сегодня, когда, казалось, все глядели только на него и на его хозяина. Но смущение прошло скоро, он поднял голову и сияющими от гордости глазами поискал кого-то в толпе.
На мгновение где-то на скамье у самого входа показался преподобный Зелтынь — маленький, со слезящимися глазками, с отвисшей нижней губой, — он сидел, преисполненный лютой злобы, и видел вокруг только мерзость и грех. Лиза, должно быть, стояла там же в толпе, но ее Мартынь Упит не заметил. Айзлакстцев, как обычно, было больше, чем дивайцев, — приход назывался айзлакстским, поэтому они посматривали на соседей свысока, как на пришлых, и старались всегда пробраться поближе к кафедре и алтарю. Зато дивайцы считали себя во всех отношениях выше. Ведь любой айзлакстец говорил, смешно растягивая слова, лошадь запрягал так неумело, что дуга ходуном ходила, в мешок насыпал только две пуры ржи, в корчме выпивал на пять копеек, а шумел на рубль. Мартынь Упит окинул айзлакстских рассеянно-презрительным взглядом. Конечно, трудно не заметить Салиниете в ее клетчатом шелковом платке на голове: высокая и худая, она стояла прямо против кафедры, опершись на спинку передней скамьи. Ее девчонка была уже ростом почти с сине-серого бородатого Моисея, который подпирал затылком кафедру и держал в руках исписанные скрижали с заповедями.
Кафедру не видно было из-за цветов и зелени. Вдоль перил алтаря девушки протянули гирлянду из брусничника и белых цветов, а позолоченную раму огромной картины обвили зеленовато-рыжими колосьями. «Снопа три пшеницы извели», — подумал Мартынь Упит. Эта картина была величайшей гордостью Айзлакстской церкви. Ее писала сестра старой помещицы, фрейлина Ремер, такая же старая дева, только еще постарше. Картина получилась хорошая, однако чего-то в ней недоставало, что-то было не так. Однажды случайно забрел сюда из Германии странствующий подмастерье-маляр, у него при себе оказался особый лак; как только покрыли им картину, сразу все люди на ней ожили. Ну прямо живые — сколько на нее ни смотрел Мартынь Упит, все не переставал изумляться. Христос, правда, получился какой-то чудной; не будь это в церкви, можно было бы и посмеяться. Сидит, заломив руку, длинная юбка на нем подпоясана веревкой, волосы до плеч, как у девушек, бородка точь-в-точь как у Бите-Известки. Высокая женщина держит на руках ребенка, а тот, верно, думает, будто Христос поднял руку, чтобы дать ему подзатыльника, поэтому прижался к матери, повернув к молящимся голый задик. Если бы мать не была такой молодой и красивой, можно было бы принять ее за Осиене, одна рука у нее до плеча голая, почти как у бривиньской Лиены, когда она стирает белье. Конечно, Мартынь тайком поглядывал именно на нее, притворяясь, что все время смотрит на Христа.
Учитель Банкин сидел за органом на хорах, над самым входом, и, задрав бородку, сердитыми покрасневшими глазами смотрел поверх молящихся — возможно, на ту же картину. Его помощник Балдав, высокий и плечистый, с гладким лицом и узкими-преузкими глазками, стоя выискивал кого-то на женской половине. Внезапно из-за картины вылез Томсон и вывесил на стене две черные дощечки с номерами псалмов. У него были седые, коротко остриженные волосы и нежное розовое лицо в коричневых веснушках. Держался он так, точно был не в церкви, а в каретнике приходского училища: и выражением лица, и каждым своим движением старался показать — до чего тут все для него привычно и обыденно. Он вынес из-за картины маленькую складную лесенку, взобрался на нее и зажег свечи на двух паникадилах с изогнутыми позолоченными рожками, потом, громко скрипя сапогами, поднялся на хоры раздувать мехи органа. При дневном свете чудесно колыхалось пламя свечей в двух позолоченных паникадилах, и перед картиной в двух высоких жестяных шандалах, а по бокам — в дутых серебряных семисвечниках. Одуряюще пахли цветы в душной, наполненной синеватой дымкой церкви; к их аромату примешивался запах пота и масла, которым мазали головы, а вокруг старшего батрака Бривиней неизвестно с чего сильно воняло дегтем. У пюпитра кафедры пылали темно-красные георгины, присланные бривиньской Лаурой, — в церкви все было проникнуто торжественным и праздничным настроением.
Но вот наверху, над входом, тяжело заскрипела педаль органа — это принялся за дело Томсон. Молящиеся принялись искать по номерам нужный псалом, но шуршания страниц уже не было слышно. Банкин заиграл. Мартынь Упит, вздрогнув, оторвал взгляд от картины и взглянул вверх. Фу ты, черт, что за басы, а между ними пробивался тонкий дискант. Гудело и свистело так, что нельзя было ничего разобрать в этой путанице, только порой дрожь пробегала по спине. Банкин работал и руками и ногами, — прямо удивительно, откуда бралась такая ловкость! Но вот он заиграл тише, проворковал в одном голосе, потом начал снова, теперь уже стало понятно — запели прихожане.
«Хвалите господа, князя величия святого…» Это «святое» — протяжное и низкое — прихожане выводили долго. Банкин и так играл медленно, а они растягивали еще больше, он уже гудел конец стиха, когда прихожане что есть мочи еще тянули «гусли ада проснутся». Нужно было, конечно, петь «да проснутся», по в книгу вкралась ошибка, и уже третье поколение пело «ада», из-за которого весь стих становился бессмысленным, но зато более таинственным и торжественным.
Пастор Харф или, как произносили дивайцы, Арп, вышел из-за картины, в черном сборчатом таларе, с белыми уголками под бороной, высокий, величавый и торжественный. Когда он во весь свой рост показался на кафедре, Банкин сильным толчком заставил смолкнуть орган, и в церкви наступило гробовое молчание. Пока пастор стоял, прижав лоб к пюпитру, рядом с его ушами пылали красные георгины бривиньской Лауры.
Пропитав «Отче наш», Харф поднял свою могучую голову с пышными волосами, пухлым красным лицом и рыжеватой бородкой. На этот раз он выглядел не таким гневным, как обычно, только слегка недовольным и мрачным, как того требовало благолепие богослужения. Окинул прихожан быстрым взглядом знатока. Все — как подобало. Салиниете из айзлакстской волости — на своем обычном месте, ее и встретил прежде всего его взгляд. Старики из богадельни столпились впереди. Витолиене уже комкала в горсти белую тряпицу, чтобы была под рукой, когда начнут капать слезы. Там сидел и хозяин Бривиней из Дивайской волости, — Ванаг поймал устремленный на него взгляд и почувствовал себя неловко. Но пастор уже смотрел на других. «Рийниека ищет», — подумал Ванаг. Во время проповеди он испытывал какое-то беспокойство: кто его знает, Арп иногда никого не щадит, ему все равно — старик из богадельни или первый землевладелец в волости. А теперь он особенно сердит из-за пережитых недавно гонений… Однако на этот раз он был непривычно сдержан: черти, сатана и прочие страсти в начале проповеди мелькали лишь изредка; кулак всего только раз стукнул по кафедре, и то не особенно сильно. Говорил о благословенной жатве, добром урожае, восхвалял того, кто один лишь дал свыше все это богатство. Выходило так, что на земле ничего не делали, только он один вспахал и засеял, сжал и свез в закрома, по меньшей мере был вроде большого старшего батрака — и начинал и кончал. «Да, хорошо, — пришло на ум Мартыню, — кабы в тот день, когда вывозили навоз из бривиньского хлева, подмог как следует и этот четвертый». Но Харф уже несся дальше. Теперь он отчитывал мерзостных маловеров, которые вспоминали дорогу в церковь, только когда вода заливала их дом или когда в засуху блошки пожирали на огороде капусту. Тот, на небеси, лучше знает, когда приказать своему солнцу светить и когда поливать землю своим дождем. Против этого у хозяина Бривиней нашлось основательное возражение. «Тоже знаток, — подумал он, — спросил бы меня, тогда бы не сгнило полстога за садом…»
Только перед самым концом пастор заговорил жестче. Тот, на небеси, в своей безграничной кротости был слишком милостив ко всем, даже к тем, кто заслуживал не милосердия, а карающей лозы. Еще и рожь не обмолотили, а они разъезжают на блестящих тележках, курят дорогие сигары и думают, что царство божие уже у них в кармане. Бес гордыни обуял людские головы, каждый землевладелец хочет сравняться с бароном. «Нет! — здесь Харф еще раз стукнул кулаком по кафедре, теперь уже довольно сильно. — Тот, вездесущий, сумеет каждого посадить на свое место, одного — на мягкие подушки, другого — в навозную телегу…» Что называется, пальцем показал! Ванаг заметил, что многие, очень многие осторожно поворачивают головы и смотрят куда-то в одно место, посреди церкви, некоторые даже прикрыли ладонями рты, а на женской половине носы уткнулись в белые и красные платочки. «Ага! — сердце хозяина Бривиней весело забилось, — так тебе и надо! Посадил на место!» Но тут же сердце замерло, радость потухла: Харф еще громче повысил голос: «…А другие, поднимая пыль до облаков, несутся на горделивых вороных будто на ярмарку в Кокнесе, норовят подъехать к самым жемчужным вратам! Содом и Гоморра! А в банк, может быть, еще весенние проценты не внесены! И ты, тлен и прах, мыслишь вознестись, не имея крыльев? Он — он некогда повелел Илье подняться на небо на огненной колеснице, а у тебя в будущем году, возможно, вырастет на поле один чертополох да молочай…»