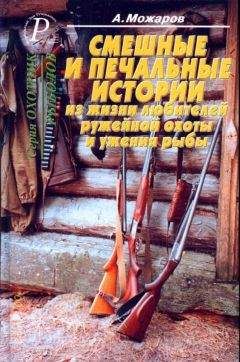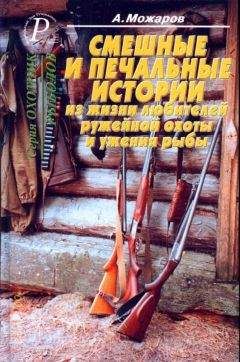— С Королевым работали? — продолжил допрос Тютюня после первой.
— С Сергеем Павловичем мы встречались в астрале.
— Там жарко, поди, в Австральи-то? — без тени улыбки спросил Тютюня и снова пригубил. — Хоць бы лапьшичьки сварила, а то все щчи, да шчи! — вдруг неожиданно сменил он тему разговора и собеседника.
— Тия сомово сворить! — резко возразила молчавшая до сей поры баба Груня и, ища у гостей сочувствия, быстро выговорила наболевшее: — Пойду, баит, погляжу, бродит ли. Раз поглядел, два поглядел. А мне, дуре, и не в сметку. Зашла в чулан, а уж брага-то вся убряла! — закончила с отчаянием баба Груня, подтверждая произношением последнего слова справедливость филологического открытия профессора белой магии.
Потеряв контроль над происходящим, Валентина сидела, уставившись в стол, и ждала, чем кончится весь этот кошмар.
Заметив, что Тютюня заснул, не дождавшись окончания монолога обиженной супруги, мы с братом подхватили его под руки и уволокли из залы в надворную летнюю спальню, где он уткнулся в душистый матрац, набитый сухим клевером, и обмяк в объятиях с Вакхом и Морфеем.
Все то время, пока мы отсутствовали, профессор тактично не замечал происходящего. Он смотрел в окно и что-то объяснял жене, показывая пальцем на молодые, зажигающиеся в зеленом у горизонта небе звезды. Валентина пришла в себя и посмотрела на нас с благодарностью, отчего мы переглянулись и, заметив друг у друга в глазах явную надежду, враз посуровели.
— Я тут объясняю моему ангелу, — профессор поцеловал аккуратную ручку жены, — что нынче на охоте нас ждет удача, господа!
Мы с братом вновь переглянулись, на сей раз с изумлением. Мы рассчитывали отправиться завтра, а сегодня идти на вечернюю зорьку было уже поздно. Если только немедленно плыть на катере на Капустник.
— Вон видите, — продолжал между тем профессор, — Марс в знаке Стрельца. А что это означает? Это означает, что Козерогу сегодня должно повезти, а я как раз Козерог! — радостно сообщил он.
— Это чувствуется, — еле слышно прошептал брат и вслух добавил: — Тогда пора идти, а то стемнеет того гляди.
— Как, уже? — удивился профессор. — Что ж? Я готов! — произнес он так, будто согласился стреляться с прожженным бретером-дуэлянтом, и окинул печальным взором благоухающий деликатесами стол.
По дороге настроение профессора вновь исполнилось лиризма, и он принялся эмоционально рассуждать о том, что нет ничего зазорного и постыдного в том, что мужчине, если он настоящий мужчина, доставляет удовольствие вид оружия, а держать в руках полированную шейку приклада и вороненую сталь ствола — одно из величайших наслаждений в мире.
В быстро завоевывающей свет тем ноте мотор смолк, и катер ткнулся носом в податливые кусты тальника, полные синей ночной прохлады. Пока я разбирался, к каким бы ветвям привязать катер, профессор, не говоря ни слова, ловко спрыгнул за борт и погрузился по грудь в воду.
— Как тут неожиданно глубоко, — произнес он с ноткой игривости в голосе, пока мы с братом пытались понять, что произошло.
На берегу, стуча от холода зубами и сливая воду из сапог, профессор заверил нас, что с ним все в порядке, все происшедшее — пустяки, обычное дело для охотника, если он настоящий охотник.
На ощупь, по памяти мы добрались до знакомых стоянок в зарослях камышей и зарядили ружья. Свою двустволку я отдал профессору, стараясь ненавязчиво поднимать к небу все время опускающиеся в кусты стволы. Брат ушел шагов на пятьдесят вправо.
Судя по смолкшей канонаде, которая была слышна, пока мы ужинали, собирались и плыли к месту, лет подошел к концу или уже закончился.
— У Розенбаума мне больше всех песен нравится «Утиная охота», — предался откровениям профессор, пока я старался высмотреть в мутном небе хоть какое-нибудь движение, но кроме козодоя, беспечно кружащего вокруг нас бесшумной тенью, ничего не видел.
— Как это здорово: «Из полета, или как там, возвратятся утки на озера, или что там, с голубой водой», — самозабвенно продекламировал он вполголоса и вдруг вскинул ружье к плечу.
Огонь из правого ствола вспорол ночную тьму, но оглушительный залп позволил тем не менее расслышать, как дробь срезала на своем пути метелки десятков камышей. Профессор слегка отшатнулся. Онемев от такого оборота событий, я потянул руки к ружью, но профессор мягко увильнул, произнося:
— Ничего, ничего. Отдача не сильная. Сейчас я ее доберу.
С этими словами он повел стволами в мою сторону на уровне лица. Я молча упал и, падая, услышал новый выстрел и шум срезаемых дробью камышин.
Если выбросить из последовавшего за этим стремительного пятиминутного словоизлияния брата, скоренько подбежавшего к нам, все непечатные выражения, то кроме предлогов и междометий там останутся только три первые слова: «ты», «что» и «козерожина». Увидев, что профессор пальнул по козодою, которого в конце концов заметил и принял за утку, брат на всякий случай решил схорониться и лег в траву. Второй заряд дроби кучно просвистел над его головой. Зная, что патроны у меня, и догадываясь, что я уже не позволю профессору перезарядить ружье, он решился подняться и нанести нам визит. Во время этого запоздалого инструктажа по правилам безопасности на охоте профессор пытался извиниться, говоря, что и в мыслях не держал причинить кому-либо из нас какой-то вред. Меня это заявление отчасти успокоило, а у брата вызвало обратную реакцию.
— Еще бы ты попытался, козерожина! — завопил он, выкатывая глаза на ссутулившегося профессора белой магии.
На обратной дороге, когда катер поворачивал, чечетка, выбиваемая резцами профессора, заглушала глохнущий мотор. Все сидели нахохлившись, как вороны под дождем, и молчали. Я думал о том, что все мы, вступившие в эту нелепую игру, проиграли, и Валентина никогда не простит нам с братом этого проигрыша.
Так оно и оказалось.
Через пару недель я встретил Тютюню у деда Сани. Старики сидели на лавочке в саду, под раскидистой золотой китайкой, усыпанной полупрозрачными от бродящего уже сока яблоками. В ногах у них спал облезлый кобель, который, завидев меня, сделал попытку пошевелить приветственно хвостом, но это получилось у него лишь отчасти.
— Я, чай, ты и не знашь, как профестора проводили, — обратился ко мне Тютюня, излагавший, по-видимому, деду Сане свою точку зрения на события двухнедельной давности.
Он рассказал, как ночью проснулся и пошел на двор, а вернулся, по привычке, не на духовитый матрац, а на свою кровать, где дочь и жена уложили профессорскую чету. Хорошо, баба Груня услышала, что он встал и долго не возвращается. Она застала Тютюню на коленях перед кроватью, вымаливающего под звонкий храп мага у его жены прощения за то, что он, пьяный дурак, по ошибке пытался улечься с ней рядом.
— Господи, ну хватит же наконец! Ничего страшного не случилось! — пыталась отвязаться от Тютюни женщина.
— Да я бы, если чего и захотел, так уже лет пять, как ничего не выходит! Так что вы, чего не подумайте! — не унимался Тютюня, готовый уже заплакать от случившегося по его вине конфуза.
Баба Груня увела его все еще причитавшего:
— Да кабы я чего мог, так и то не польстился бы на вашу телесность. Вы не думайте, Христа ради. Я не охотник на костях кататься.
А утром, когда по расчетам Тютюни, гости должны были уже уехать, он вошел в залу, позевывая, лохматый, в синей майке и черных семейных трусах, вывернутых так, словно обе ноги одеты в одну штанину, со словами:
— Дочьк! Мне бы похмелиться, а то вчерась, пока я от твово придурка-то этого, завмага из Австралии, прятался, всю организму себе самогоном спортил.
Войдя наконец в залу, он рассмотрел сидевших за столом жену, дочь и двух вчерашних гостей.
— Ничего не вышло у Вальки-то с профестором, — закончил рассказ Тютюня. — Дак, она новых двух подыскала. Петьку сватает с ними на охоту сходить.
Один из новых, судя по всему, был каким-то продюсером, а второй — инвестором, но Тютюня, никогда не утруждавший себя правильным произношением незнакомых слов, называл обоих «продристорами».
рат еще улыбался, но уже не так ехидно, и на стремительный поток торопливых и невнятных фраз деда Сани все чаще кивал головой.
— Убей Бог! Убей, если вру, что не так, — выпучив, сколько было возможности, маленькие глазки, сыпал дед, как из молотилки, чтобы не дать никому возможности перебить его. — А только верно баю: чернобурка! Вот, как сейчас, своими глазами. Убей Бог! И хоть и старые глаза, а лучше новых двух. Вот, разрази гром, погонят! А всего-то: час-два, туда-обратно.
Чтобы было убедительнее, дед подпрыгивал на табурете и размахивал руками, выстреливая одну очередь слов за другой. И очереди эти должны были поразить брата в самое сердце — уговорить его отправиться за чернобуркой, которую дед видел, якобы, у давным-давно сгоревшего дома лесника.