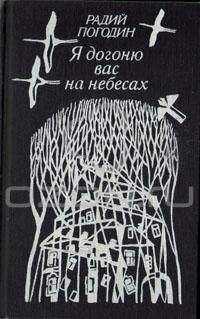Бронетранспортер стоял у трехэтажного особняка с двустворчатыми стеклянными дверями. По обе стороны дверей пилоны с каннелюрами, капители с ионическими загогулинами, над дверями герб, над гербом балкон — и какой-то во всем этом деле ампир, что-то конногвардейское.
А там, за дверями прозрачными, с начищенной медью, в просторном холле, в стеклянных шкафах-витринах экспонаты: роскошные мундиры с эполетами, шнурами, лентами, шлемы с плюмажами, с пиками на макушке, ботфорты и лаковые сапоги с высокими пятками, перчатки, ленты. Блеск золотых пуговиц и золотых позументов, синее и красное, черное и оранжевое, белое и серебряное.
Писатель Пе уже звонил в звонок. Тут же толпились все: Егор и Анатолий, Шаляпин, Паша Сливуха и я. Шофер Саша из машины не вылез.
— С одного музея мы уже схлопотали, — сказал он мрачно.
На звонок в холле появился старикашка с усохшей грудью и острыми плечиками — лысый и оттого ушастый. Выражение глаз его было настороженным, но не пугливым. Он был похож на старого лакея, который видел всяких господ, знает цену подкупу, шампанскому и благородным дамам. Был он в оттянутой на локтях вязаной бежевой кофте, толстых твидовых брюках, в толстой несвежей трикотажной исподней рубахе с начесом. Он застегнул кофту, чтобы рубаха из-под нее не выглядывала. И открыл дверь. А рубаха все равно высовывалась, и тонкая сморщенная птичья шея свободно проворачивалась в ее горловине.
Старик спросил, чего мы хотим. А Писатель Пе с подхалимской улыбочкой ответил ему:
— Музеум. Желаем посетить. Вен ман канн. Мы только что из Сан-Суси. Зер гут. Прекрасно. Шон.
Старик насупился, глаза его глубоко ушли под седые брови, он сделался похожим на старую, потерявшую память дворнягу или на сыча, упрямого и тупого; потом он вдруг закивал — «Музеум. Музеум…» — на его лице написалась какая-то блеснувшая ему надежда и некая хитроватая важность.
— Гешлоссен. Шлосс. — Старик попытался вежливо закрыть дверь, но Писатель Пе обнял его за плечи и внес в вестибюль, готовый, если надо, пол подмести.
— Верцайхунг, герр папаша. Мы интеллигентные люди.
Пять хищных рож сияли за его спиной.
— Шлос-с, — шипел старикашка, вяло шевелясь в объятиях Писателя Пе. Наверно, от нехватки воздуха голос его ослабел.
Тут вмешался Паша Сливуха. Отнял старикашку от Писателя Пе, кофту на нем поправил и взял разговор на себя. Когда Паша Сливуха вдохновлялся, он мог даже немного поговорить по-немецки. В сельской школе в Рязанской губернии он считался очень способным к языкам и математике.
— Не бойся, папаша, вир аккуратен. Хенде нихт немен.
Паша запер входную дверь, дав тем самым понять старикашке, что других славян, мало ли их тут будет шляться, он не допустит — только мы, интеллигентные люди, способные на причастность к духовным ценностям. Перед Пашиным внутренним взором полыхала пурпуром Дева с той громадной картины, спрятанной в каретном сарае, уходил караван, увозил бирюзу, улыбалась избежавшая злой пули мраморная Диана с нежной грудью, легко умещавшейся в его ладонь.
Старичок кашлял.
Мундиры в витринах были красивы. Шлемы парадны. Сапоги начищены. От всего этого так и веяло кайзером и Мендельсоном. Одежда генералов всегда немножко для дам. И древние бравые полководческие выкрики, наверное, были похожи на «ку-ка-ре-ку!».
В воздухе стоял запах свечи и сердечных капель.
На стенах в холле висели картины в золотых багетах — битвы и натюрморты со съестным припасом: дичью, фруктами и овощами.
По второму этажу холл опоясывала колоннада. На потолке цвета снега висела сердитая люстра.
Мы шли по широкой мраморной лестнице тесным клином. Впереди Писатель Пе, как самый из нас просвещенный.
Наверно, не туда мы шли — старичок прокашлялся, наконец суетливо забежал вперед, раскинул руки крестом и запаниковал, борясь с одышкой.
— Найн! Шлосс! Верботен! Хальт! — выкрикивал он.
— Вир аккуратен, — терпеливо возражал ему Паша. — Хенде нихт немен. — Паша готов был помочь старичку почистить картофель, выколотить ковер, вбить, если надо, гвоздь в стену — у Паши чесались тимуровские прививки. Он похлопал старичка по плечу и открыл первую от лестницы белую с виньетками дверь. За ней была спальня с неприбранной кроватью. Стоял тот же запах сердечных капель. Мы переглянулись. Но и тогда еще ничего не поняли.
А старичок мышкой забежал в следующую комнату с такими же молочно-белыми высокими дверями. И оставил двери открытыми.
Это был кабинет. Большой. Светлый. Строгий.
Когда мы, оробев, втянулись в него, старик сидел за письменным столом. Кулаком правой руки он опирался на колено, левую вытянул вдоль стола к лампе, отчего левое его плечо поднялось и круглая голова оказалась как бы на склоне гипотенузы — вот-вот покатится. Лицо его было поспешно гордым. Глаза окаймлены красными веками. И от этих красных век по щекам разбегались красные трещинки. Он был очень стар, но морщины не обезображивали его, к тому же по природе он, наверно, был смешливым.
И вот что — он не был жалок.
Он был потрясающе монументален в теплой исподней рубахе, окончательно овладевшей его воинственной шеей. На лысине у него темнело родимое пятно, как пупок, отчего голова делалась похожей на детский животик.
О господи, прости нас за грехи наши, но деда этого мы разглядывали сквозь влажную призму какой-то бессознательной, но безусловной симпатии.
На столе, большом, темного золотистого клена, под настольной лампой с золоченой ампирной подставкой и гофрированным абажуром из плотной мраморной бумаги, похожей на пергамент, стояла серебряная рамка и в ней портрет — рьяный кайзеровский генерал, усатый, с круглыми глазами, в шлеме с плюмажем.
Мы переводили взгляд с портрета на старика — это был он. Безусловно, он — реликт, хвощ, тиранозавр…
На стенах висели картины в багетах — баталии, пейзажи с руинами и впечатляющий портрет старика, тогда еще молодого генерала. На портрете он стоял ровно, без намека на малейшую вольность, стиснув колени и прижав локти к бокам, как на Большом Смотру перед кайзером.
Сейчас старикашка напоминал гимназиста, гримасничающего перед зеркалом в безнадежном порыве стать на минуточку отцом нации. От напряжения у старика вздулись вены на шее и на висках. Это его «ку-ка-ре-ку!» могло плохо кончиться. Все мы молчали.
Паша Сливуха вздыхал.
Вдруг он пошевелил старика за руку.
— Эх, гроссфатер. Наин зерсторен унзер херц. Гляйх шпрехен зофорт: «Их бин генераль-аншеф». А мы что? Мы вам митфухлен.
Что-то в старом генерале надломилось. Он упал грудью на стол, вытянул перед собой руки, сухими кулачками ударил по блестящему дереву. Паша Сливуха очень душевно погладил его по голове. Острые лопатки старика, как обломанные надкрылья, шевельнулись под вязаной кофтой.
И я, и Писатель Пе подумали об одном — о женщине, упавшей в обморок возле своей кровати, из которой мы вылезли, как из броневика. Но ей было легче, она могла, очнувшись, списать нас как галлюцинацию — болезнь измученного страхом мозга. У старика такой возможности не было…
Наверно, все же надо было бы ему надеть добротный костюм — на роль истопника он не годился, на роль шута — тем более. Но не было противника, равного ему по чину, он это предвидел, — не перед кем было шпагу ломать. А вот комедию…
Он застонал, заколотил кулачками по столешнице.
Мы вытолкались из кабинета. Но не ушли.
Егор и Анатолий на балкон вылезли, дверь туда была приоткрыта для воздуха. Писатель Пе исчез — наверно, наткнулся на граммофонные пластинки, отыскал Розиту Сирано. Шаляпин брякал на рояле собачий вальс. Паша Сливуха появился откуда-то взъерошенный, поманил меня в короткий коридорчик на задней стороне особняка.
Окна тут выходили в сад. Я думал, он кухню нашел с чем-нибудь вкусным, но он открыл незаметную среди прочих дверь.
Это была большая кладовка, снизу доверху набитая добротными кожаными сундуками и чемоданами. Ясное дело — хозяин в свое время много воевал и путешествовал, может быть, даже в Африке.
— Ну и что? — спросил я.
— А то — почему он свою амуницию не поклал в сундуки, а выставил ее на обозрение? Почему не смылся перед нашим приходом?
— Старый потому что. Никому не нужный.
— Нет, он дает понять, что он чихал как на Гитлера, так и на нас. Это его такой надменный сарказм. Недаром он генерал-аншеф.
— Почему ты думаешь, что аншеф?
— А может, генерал-фельдмаршал…
Но тут послышалось:
— Комм, фрау, комм…
Мы с Пашей выскочили на галерею.
Ходоком у нас был Шаляпин. Но он играл собачий вальс.
Писатель Пе откуда-то с третьего этажа вел за руку женщину лет пятидесяти — может, генеральскую дочку, а может быть, генеральскую экономку, но очень важную.
Она шла сдаваться величественно и надменно.