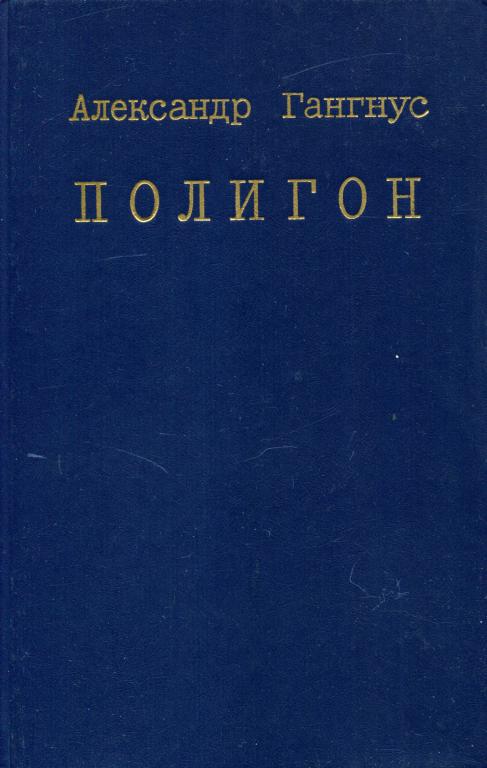в Анналы Института философии природы. Казалось бы, не в ту степь, разбрасывается товарищ Орешкин. Черта с два! Все железно связано. Сейчас он ясно видит эту потрясающую взаимосвязь. Вот Орешкин! Вот мудрый змий! Все, все пойдет в дело, к ясной, четко очерченной цели. Прежде чем заговорить о прогнозе, надо было догадаться о самом факте развития всего сущего — от амебы до мысли, от атома до социума. Дарвин пришел на хорошо утрамбованную площадку. В XVII веке почти никто не догадывался, что мир развивается — да еще и по железным законам.
Если проследить, как они тогда, в XVIII веке, нащупывали, осознавали идею развития. Лейбниц, Кант, Гердер… кто там еще, Гёте, Шеллинг… На многое в своей же собственной все еще не защищенной диссертации об общих принципах научного прогноза Орешкин теперь смотрит совсем иначе… Как ни странно, самый тяжкий порок современной науки — необразованность, отсутствие подлинной научной и философской культуры. Что можно путного сказать о принципах научного прогноза, не зная всей драмы идей, сопутствующей развитию самих представлений о причинности… Ясность, ясность приходит, когда читаешь великих предшественников. И уходит необоснованный апломб узкого профессионализма. Он, Орешкин, как паук, засядет здесь в горах, под Крышей Мира, всюду протянет паутины мысли, все поймет и увяжет. И вовсе не для диссертации это нужно. Как Женя говорит?.. Для судьбы. Утром землетрясения — вечером принцип развития. Или неделю то — неделю другое. И не помешает одно другому. Только ускорит. Еще Света приедет, подключится. Лютикова зажечь, клуб раскованной мысли этакий создать, чтобы весело и интересно. Хотя Лютикова трудно отвлечь от его личных проблем… Но ничего, ничего…
Он не занимался землетрясениями? Это можно и необходимо превратить в преимущество. Преимущество первого непредубежденного взгляда.
Сила. Власть… Нет, не те сила и власть, не Наполеоном стать — кому это нужно. А те реальные сила и власть, которыми обладали Кант и Гёте, — над мыслью, над временем, над собой. Все может человеческая голова, если в ней мозги, а не бог знает что. Все может. Логика, знание. Еще… Страсть. Все есть. Значит, все будет. Наконец-то! Позади колебания, эта борьба с ветряными мельницами. Суета, Лютиков говорит. Правильно! Здесь, у врат Тибета, сесть в позе лотоса и все пронзить усилием мысли. Все!..
Орешкин видел впереди длинный ряд таких вечеров — с острым чувством работы мысли, с ощущением власти над связью вещей. Давно надо было. Сколько времени упущено! Догнать!
Зеленый чай в сочетании с сухим легким воздухом этой части Передовой зоны Памира, говорят, оказывает особо тонизирующее действие на некоторые типы человеческой психики…
5
Волшебство продолжалось… Вадим лег не раньше трех часов ночи. И не мог заснуть. Мысли вихрились. Впереди расстилалось сияющее шоссе — грядущая Вадимова жизнь. И все на этой столбовой дороге было ясно. Везде все было четко обозначено специальными указателями и знаками. Каждые сколько-то километров были заправки, стоянки, о местах подъемов и спусков предупреждалось неукоснительно. Вадим жал ручку газа на всю катушку, мотоцикл, вроде бы проданный в спешке отъезда за полцены, послушный красный конь, конечно же вернулся неведомо как и, не помня зла, мчал хозяина, как встарь, по сияющей дороге. Сзади Вадима обнимали руки верной спутницы, черноокой красавицы жены. Впереди, на бензобаке, белоголовый худенький мальчик, сын Мишка. От первого, несчастливого брака. Но не такой почему-то, какой он сейчас, десятилетний, подозрительный, дерзкий: «А может, ты мне и не папа вовсе?» А такой, какой он был в последнее лето прежней жизни, когда все рушилось и все — в предчувствии — было ясно. И, как тогда, маленький шестилетний сын поворачивает голову и говорит ясно и громко: «А я знаю: счастье это когда лето, речка — и мы едем, на мотоцикле». И вот теперь Мишка по-настоящему прав: с Вадимом два самых близких ему человека, которых въяве он и в мечте не мог соединить. Жена и сын. А ведь это так просто! Да и где ж им быть, как не с ним вместе? Да, да, это и есть счастье!
Вадим заметил, что, если особым образом пошевелить ручкой газа и при этом сцеплением, мотоциклу не обязательно нырять в очередной овраг, можно просто перемахнуть с гребня на гребень. А отсюда — так просто сообразить, что на очередном подъеме можно перейти в полет, — шоссе никуда не денется, а сверху так все видно! Боюсь! — кричит сзади Света и еще крепче обхватывает руками. Мишка хохочет — в восторге. А Вадим тоже смеется, но направляет мотоцикл вниз, чтобы мягко коснуться колесами асфальта. И вдруг чувствует, что теперь это не просто: дорога петляет внизу ускользающей ниткой. По сторонам высятся снежные вершины. Сахарные громады заставляют маневрировать, от них веет неясной угрозой. И Мишка спереди и Света сзади замолкают. Вадим все же заставляет мотоцикл снизиться. Вот-вот спасительная твердая полоса шоссе побежит буднично под колесами. Но что это: черная трещина прямо на глазах раскалывает асфальт и, стремительно расширяясь, приближается, обнажая свое пустое жуткое нутро. Надо перелететь — это удается, но уже без легкости, трудно. Ручка газа и сцепление слушаются плохо. «Землетрясение!» — кричит сзади Света. И правда: клубы пыли и снега вздымаются со склонов, тянутся длинными рукавами-щупальцами, слепо тычутся в дорогу, нащупывая. Вверх, вверх! — но как тяжело, как трудно это теперь получается! Дорога почти исчезает под грудами камней, в облаках пыли, уже трудно понять, куда править, чтобы выбраться из этого хаоса, спасти сына и Свету. Дышать тяжело, что-то давит на грудь…
Весь в поту, Вадим просыпается. Тело болит от непривычно жесткого ложа. В комнате полумрак, но за шторами угадывается ясное утро. Штора чуть колеблется от утреннего сквозняка, через приоткрытое окно слышно фырчанье машины, хлопанье дверцы, голоса. Чужая пока жизнь обсерватории шла своим чередом, помимо Вадима. Предстояло вставать, выходить, включаться в эту жизнь, отчасти как бы навязывать себя ей, ибо, похоже, до сих пор все прекрасно без него обходилось… Где же Лютиков, черт возьми, человек, которому, судя по письмам, Вадим был здесь нужен позарез?
Не одеваясь, Вадим прошлепал босыми ногами к столу, сел, всматриваясь во вчерашние записи, преодолевая сонливость и слабость. Да, вот она, фраза, размышления над смыслом которой остановили вчера, вернее, сегодня под утро его бегущую авторучку: ненавидеть можно только то, что ты в силах уничтожить…
Вроде бы верно… Как можно ненавидеть, скажем, землетрясение? Или несовершенство человеческой природы? Вещи, лежащие за пределами прямого человеческого воздействия… Натуралист может даже любить землетрясение, а писатель — несовершенство человеческой природы, как предмет изучения и источник вдохновения… Но что-то все же не нравится Вадиму в этом