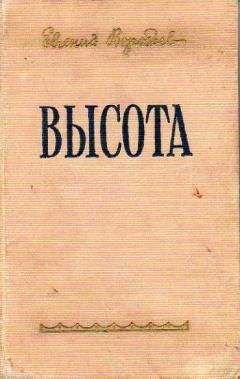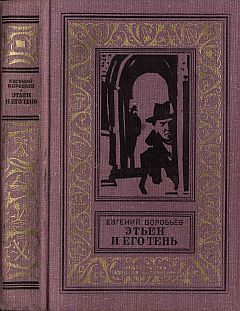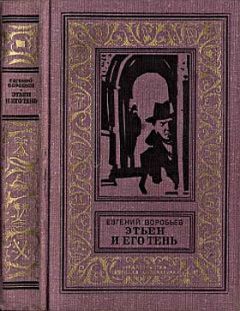Они несколько раз оказывались в такой близости один к другому, что, если бы не шлем с очками, Лихоманов, наверное, мог бы узнать фашиста в лицо. И знакомые четыре туза на обшивке! После первой встречи Лихоманов рассказал про эти четыре туза Виктору Петровичу, и тот пояснил: есть такая азартная игра — покер, и если у вас четыре туза, выражаясь по-картежному — каре, на руках, сорвете любой банк — и будьте здоровы, живите богато!..
Лихоманов чувствовал себя сейчас намного увереннее, чем в минуты первого боя с сорок вторым. Он многому научился за последний год, сделал почти двести вылетов. Но тут же он подумал с усмешкой, что и фашист под номером «42», наверное, не сидел этот фронтовой год сложа руки; у него за желтыми цыплятами и обшивки не видно...
Фашист почувствовал, что перед ним серьезный противник, не бросался вперед очертя голову, а держался на дистанции, готовясь занять наиболее удобную позицию Для нападения, понимая, что ему предстоит нелегкая дуэль. Он наверняка узнал старого противника с цифрой «24», узнал самолет, у которого мгновенный росчерк молнии запечатлен на обшивке белым зигзагом — молния идет от винта к хвосту.
Цыплятник пытался атаковать в лоб, но Як-9 увильнул в сторону, не приняв боя.
Противники уже не раз расходились, затем сближались, подстерегая один другого, следя за молниеносными перемещениями земли и неба, обгоняя своей стремительной мыслью и свою и чужую машину.
После сложного каскада фигур, завершенного восходящим штопором, Лихоманову удалось занять выгодную позицию.
Принять навязанный ему бой?
Но именно в этот момент он вспомнил о проведенной сегодня аэрофотосъемке, что остудило его воинственный пыл.
Еще несколько фигур для отвода глаз противника. Лихоманов уже твердо решил выйти из боя. Оказывается, не всегда нужно следовать заповеди, которую он услышал еще в летной школе: пехотинец воюет за каждую пядь земли, а летчик защищает каждый клочок родного неба...
Он не пошел на сближение, а опрометью помчался прочь от сорок второго. Это было для того полной неожиданностью, он потерял немало секунд, прежде чем начал преследование беглеца.
Хорошо бы спрятаться за облаками! Но когда ветер успел растрепать облака в серые клочья? Двадцатьчетверка наверняка видна в просветах. Лихоманов бросил машину вверх, скрылся в тучах и — давай бог крылья...
Пришлось мобилизовать всю находчивость, чтобы удрать от цыплятника.
«Ну и пусть думает, что у меня трясутся поджилки и зуб на зуб не попадает. «Гарун бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла...» — выплыли вдруг из закоулка памяти строчки, которые, может быть, ни разу не вспоминались со школьных времен. — Сорок второй считает себя орлом, обратившим в бегство зайца!..»
Сбежав от сорок второго, он не почувствовал себя побежденным и вернулся на свой промокший аэродром в приподнятом настроении.
«Да, я вел себя сегодня как трус, отъявленный трус, и смело в этом себе признаюсь!..»
Он откинул прозрачный колпак над головой, спрыгнул на податливую после дождя землю. Привез назад пулеметные ленты, набитые патронами, и пушку не нужно снаряжать заново, и горючее осталось про запас... А его не оставляло ощущение, что сегодня израсходованы все боеприпасы — он отснял всю фотопленку до последнего кадра. Все его неутолимое любопытство, вся его тренированная наблюдательность отпечатались на будущих фотоснимках.
Он ощущал себя победителем, хотя еще не знал, что сегодняшний боевой вылет командующий зачтет ему за три сбитых самолета — тех самых, недостающих...
Как всегда, его встречал на посадочной полосе Остроушко, а с ним майор Габараев в бурке; в дождливую погоду он надевал бурку вместо плащ-палатки.
— Скорей кассеты! — торопил он Остроушко, который уже успел скрыться в кабине. При этом Габараев ласково похлопывал рукой по крылу самолета, точно это была шея лошади. — Машина отсюда до нашей фотобани не дойдет, — сообщил Габараев без огорчения, а вроде бы даже с удовлетворением. — А мы — верхами! Аллюр три креста. Через час снимки будут на столе у генерала.
Коновод Габараева подвел гнедого к самому крылу двадцатьчетверки. Габараев осторожно вдел ногу в стремя и вскочил в седло. Он делал это с тем большей удалью, чем реже ему приходилось ездить верхом.
1970
Все началось с одежды. Куртка, штаны и кепка так замаслены и пропитаны нефтью, что, если только поднести спичку, они вспыхнут, как факел. Но это как раз хорошо.
Плохо, что куртка висела мешком, рукава закрывали кисти рук до кончиков пальцев, и видно, что все это с чужого плеча.
Никита Корытов, смущенный нескладной штатской одеждой, переминался с ноги на ногу.
— А поворотись-ка, сынку... Посмотрю я, какой из тебя железнодорожник, — весело сказал майор Светлов и тут же разочаровался. — Отставить!
Худощавый, невидный из себя Корытов с виноватым видом начал раздеваться. Он ссутулился и стал сейчас еще ниже.
Очень обидно, но из-за какой-то паршивой куртки он должен уступить.
— Листопад, пожалуйте на примерку, — пригласил майор.
Рослый лейтенант, стройный, с хорошо развернутыми плечами, быстро напялил на себя замасленные отрепья, причем одевался он с таким удовольствием, будто это была парадная габардиновая гимнастерка с новенькими погонами из золотой парчи, которые не знают морщин, не успели потускнеть.
Глаза Листопада глядели озорно. Непокорный чуб падал на лоб из-под замызганного козырька. Листопад вертелся во все стороны на одних каблуках, как франт перед зеркалом.
Костюм сидел на нем, точно сшитый по заказу.
— Из ателье мод, не иначе. От парижского портного, — сказал майор, громко смеясь. — Ну что ж, Корытов. Значит, ему придется. — И уже официально сказал, обращаясь к Листопаду: — Ночью в дорогу...
И вот лейтенант Листопад шагает от деревни к деревне, мимо немецких патрулей.
Нарядные березовые заборчики у изб, где стоят на постое офицеры; таблички на дорогах, где названия исконных русских деревень выписаны готическим шрифтом — чужая, щемящая душу аккуратность.
Изменить походку так же трудно, как голос, почерк, манеру смеяться. Чтобы не обращать на себя внимания патрулей, лучше идти вразвалку, с видом независимым и беззаботным, а Листопад все сбивается на строевой шаг.
Компас, две гранаты, бинокль и наган спрятаны еще вчера под мостиком, сразу за железнодорожным переездом, и с тех пор Листопаду не по себе, как всякому человеку, который давно не разлучался с оружием и вдруг оказался безоружным.
К концу первых суток Листопад уже не вздрагивал, когда слышал лающий окрик: «Хальт!» Он послушно останавливался и доставал из кармана справку. Он не говорил по-немецки, но помнил, что, согласно справке немецкого коменданта, ему, помощнику машиниста депо Думиничи, Подгорному Константину Григорьевичу, разрешается следование домой, в деревню Кувшиновка.
Обычно патрули прочитывали справку и пропускали дальше. Только один раз его обыскали, заставили вывернуть карманы, снять и, перевернув вверх подошвами, потрясти ботинки, надрезали козырек кепки.
Справку добыли разведчикам партизаны. Они же принесли одежду железнодорожника.
Листопад добрел до Кувшиновки в хмурый дождливый полдень. Возле домов стояли укрытые брезентом цуг-машины, пушки.
Никто не останавливал путника — он легко сходил за старожила здешних мест. Кувшиновка — рядом с узловой станцией, многие местные жители работали на «железке».
Пока все шло хорошо, но Листопад понимал, как опасно находиться в «родной» деревне, где нет знакомой души.
Он прошел в самый край улицы, походя засматривая в окна, не решаясь постучаться. Наконец он поднялся по скрипучим, ветхим ступеням на крылечко дома с черепичной крышей и постучал.
Дверь открыла девушка. Она со спокойным любопытством осмотрела незнакомца и дружелюбно спросила:
— Вам кого?
— Мне бы обсушиться. Кипяточку хлебнуть.
— Кто вы?
— Русский человек. А шагаю издалека.
— Ну что ж, зайдите, — нерешительно сказала девушка. — Только теснота у нас. И немцы стоят. Скоро заявятся.
— Тогда не стоит, поищу другое место.
Очевидно, Листопаду не удалось скрыть беспокойство.
— Немцы во всех домах. Их тут нагнали целый эшелон. Проходу нет. Так что, если немцев не любите, лучше совсем уходите.
Листопаду послышались в словах девушки нотки живого участия. Он пристально взглянул в ее глубокие серые глаза и вдруг с внезапной откровенностью сказал, уверенный в собеседнице:
— Мне здесь пожить требуется. В Кувшиновке.
— Ну что же, пожить можно. А есть тут у вас кто? Знакомые или из родни?
— В том-то и дело, — вздохнул Листопад.
— У хороших людей всюду родня найдется. Заходите.