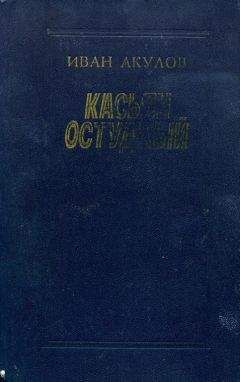Ванюшка перегибался и изворачивался, желая увидеть задники валенок, но ничего не мог рассмотреть и потому отставлял ноги в сторону, вертел их так и эдак, исходил желчью.
— А хотишь, дядюшка Федот, я их брошу в печку, — с ядовитой лаской спрашивал он Федота Федотыча. — Вот гляди, дядюшка Федот, — Ванюшка носком галоши открыл дверку у железки и стал пинать горящие полешки. — Гляди, как пыхнет резина: она на карасине сварена. Да тебе, лярва, ничего не жаль: у тебя таких пимов звездочет не учтет. Как это я, волчья кровь, неловко резанул?
Ванюшка с треском захлопнул дверку и пошел к столу, сел, не отрывая глаз от испорченных валенок.
— Дядюшка Федот, — вдруг обрадовался Ванюшка и, вскочив на ноги, вытянул свои штанины из пимов. — Погляди, как я придумал: штаны напуском. Ну чем я не Зимогор, а? — Ванюшка начал приплясывать и кривляться, разбросив руки и выпятив грудь:
Погляди-ка, мать, в окошко.
Зимогор домой идет…
На улице послышался скрип возов, и Ванюшка бросился к окну. По дороге шел обоз. На передней подводе полоскался флажок, а под ним на мешках сидел Егор Бедулев в своей тоненькой телячьей шапке, с папиросой в зубах. Рядом лежал тулуп.
— Дядюшка Федот, хлебушко твой двинули. И Егорка, лярва, краснообозником сел. Ну, скажи, вьюн, и везде-то он поспеет. А хорошо-то как — в Ирбит въехать — городской народ шары выпялит, всегда так говори.
Федот Федотыч не хотел и глядеть, но какая-то чужая сила вынудила встать, подтолкнула к окошку. Увидел, что все его кони тоже взяты в извоз, на круглых боках белых мешков разглядел свое фамильное тавро, — вышитую синими нитками букву «к», издали смахивающую на крест.
— А Егорко-то, Егорко, — возмущался Ванюшка, пристукивая в подоконник: — И везде-то он первый. Ногу с мешков сбросил, папироской задается. Собака. Выклянчил небось у товарища следователя Жигальникова. А и много хлебушка держал ты, дядюшка Федот. Все село можно вдосталь прокормить, а тут встанешь поутру — и краюшки нету.
— Пить меньше надо, — сказал Федот Федотыч и пошел на свое место. — Я тебе за работу девять мешков с осени насыпал.
— Откуда-то и помнишь.
— Из своего отсыпал — как не помнить.
— Мое мне-то насыпал. Забыл небось.
— А ты, Ванюшка, за жизнь свою сыпанул ли кому хоть щепотку?
— Да из чего, господи прости, окаянного. А было б, рази жаль доброму человеку, вот тебе, напримерно.
Федот Федотыч вел никчемный разговоришко с Ванюшкой, а мыслями перескакивал с одного на другое и ни на чем не мог остановиться, чтобы сосредоточиться и собраться с силой духа. Он думал то о хлебе, то о конях, то о машинах и готов был согласиться, что все это не его, но вдруг выступали перед ним Любава, Харитон и мешали ему отказываться от нажитого годами. «Дурак я старый, сижу да рассуждаю, что мое да что не мое. Я уже сам себе не хозяин. Зачем мне все это? И жизнь?»
И вдруг вспомнились ему слова из Псалтыря, которые он много раз слышал, но только сейчас внутренним озарением ему открылся их смысл, он неожиданно понял всю глубину утешительных тех слов и стал шептать их, все более и более чувствуя, что с ним есть кто-то, что он не одинок и никогда не будет одиноким. «Да внидет пред лице твое молитва моя; приклони ухо твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнился с нисходящими в могилу; я стал, как человек без силы».
В горестную минуту Федоту Федотычу нужно было утешение, и он наткнулся на него, оттого расслабился весь, самим сердцем доверившись определенной ему судьбе. Чтобы убедиться в том, что ему правильно указан дальнейший путь, Федот Федотыч вернулся из оцепенения и заговорил с Ванюшкой, который ножом деда Филина крошил на подоконнике табачные коренья.
— Много ли, Ванюшка, мешков насчитал?
— Сколь есть, все народное.
— И бог с ним. Не кормили бы только дармоедов да дураков. Вот таких, как ты, прости господи.
— Всем достанется. Повезли много.
— Потому и жалко, что много. Когда мало, жалеть нечего. А чернявого не видать, коего я попотчевал?
— Вроде и легонько ты его, а здоровья нету — много ли человеку надо.
— Видит бог, не хотел, — Федот Федотыч перекрестился и подмигнул Ванюшке: — Ты сядь-ка рядышком, Ваня. Сядь тутотка.
— Ну, сел. Что-то Ваней я для тебя сделался?
— Сколь ты, Ваня, запросил бы с меня, чтобы все на корню, значит?..
— Ты об чем?
— Эко, пестерь нековыряный. Под связь у бани пустишь, и все разом обымет. Не понял, дурак?
— Не понял… Той, той, той. Петуха хочешь?
— Тише. Эк, растворил зевало-то. Вот я тебе новые пимы подарил. И еще проси чего хочешь. Чего хочешь проси. Но?
— Нет, дядюшка Федот, ты на это дело поищи другого. Думаешь, Волк обзарился на твои пимы, так на все согласен. Ошибочку допущаешь. Тебя, знамо, упекут, а хозяйство твое — людям сгодится. Да и ребята твои там. Никого же ты не жалеешь, дядюшка Федот. Лютый, одно слово.
— Лютый, Ванюшка, за то бог и покарал. Винюсь, Ванюшка, и бог дает сил осудить себя. А людям прощаю. Собакой жил…
Федот Федотыч вдруг помрачнел, суровая тень легла на его лицо. Он потер лоб кулаком, будто вспоминал что-то, и наконец сказал слабым голосом:
— Мне последние ночи все пожары снились. То двор горит, то самого жгут вроде. И в голове жар опять. «…Приклони ухо твое ко мне и спаси меня».
— Ты что шепчешься? Может, водички, дядюшка Федот, а?
— Мне на двор, Ванюшка.
— Вот горе-то мне с тобой, — озаботился Ванюшка. — Ты лег бы вон на полати да лежал.
— Лягу, Ванюшка. Схожу на двор и лягу.
Федот Федотыч взял рядом лежавшую на лавке шапку и надел ее задом наперед, из-под нее высунулись концы неприбранных пепельных волос, и стал подниматься, опираясь на лавку и стену. Сделав два шага, задолго до дверей вытянул руки вперед, а ноги его в коленях были полусогнуты и дрожали. Ванюшка хотел было поддержать его, но Федот Федотыч отстранился:
— Видать, пошел по своей кромочке. А все не верил. Все думал жить-поживать да добра наживать. Голове жарко. Уф.
Придерживаясь за косяки и столбики, спустился с крыльца и, подставив лицо яркому, совсем теплому солнцу, долго стоял, щурясь и отдыхая. Из-за амбаров над крышами поднимался старый тополь, и в голых ветвях его, клешнятых от полнеющих почек, тонко и протяжно поскрипывали первые скворцы. А один, с опущенными крылышками, ярился на макушке поднятого колодезного журавля и зазывно посвистывал.
— Пошел, так иди, — поторопил Ванюшка и, достав из кармана нож, сел на ступеньку, стал бросать его и втыкать в половицу. — Да не ходи-то далеко, слышь. Садись за колодец.
— Я вот освежусь холодной водичкой, умоюсь, — сказал Федот Федотыч и пошел к колодцу, еще не обтаявшему понизу, но с мокрым и просыхающим деревом сруба. Длинную колоду, из которой поят скот, обсели воробьи и, вспугнутые, мягко запурхали крылышками, взлетели на тополь.
Федот Федотыч снял шапку, белую дубленую шубу, положил их на край колоды, поправил, чтобы не замочить. Потом разулся и рваные Ванюшкины пимы рядышком поставил. Голыми ногами ступил на ноздреватый лед и, обмирая, заглянул в холодную темень колодца. Наледь внутри давно не обкалывали, и Федот Федотыч испугался, но, вглядевшись, понял, что отверстие достаточно широко.
— Дядюшка Федот, — закричал Ванюшка, угадав неладное. — Что надумал-то? Отыдь, говорю. Во, леший.
— Ребятам моим перескажи. Господи, благо… — Федот Федотыч хотел перекреститься, но заторопился, чтобы не помешал ему Ванюшка, и когда Ванюшка успел к срубу, в глубине колодца бухнуло и загудело….
Хоронили Кадушкина скромно. Гроб его по грязной, размешенной дороге несли на руках. Оглоблин Аркадий съездил в Кумарью и привез попика, который согласился ехать в Устойное за два пуда хлеба.
— Жить совсем нечем, — жаловался попик Аркадию всю дорогу.
Оправившийся заготовитель Мошкин снова с прежней ретивостью взялся за свои обязанности, только покашливал и по утрам плевался кровью. Он настаивал, чтобы председатель Яков Назарыч Умнов запретил похоронной процессии проходить мимо сельского Совета, однако Умнов, зная, что его никто не послушается, отказался.
— Тогда я сам, — вспылил Мошкин и стал надевать свое легкое пальтецо. — Тогда я сам заверну их. Нечего, понимаете… Выискались мне. А с вами, товарищ Умнов, поговорим особо. Сегодня же поговорим по причине твоей политической слепоты.
Мошкин встряхнулся, осаживая на себе пальтецо, и пошел к дверям, но следователь Жигальников, читавший газету, заметил ногтем нужное место в статье и многозначительно кашлянул. Мошкин по отрешенной замкнутости следователя все время чувствовал его молчаливое, но упрямое противостояние и ждал малейшего повода высказаться, потому подхмыкивание Жигальникова остановило Мошкина, готового к наскоку.