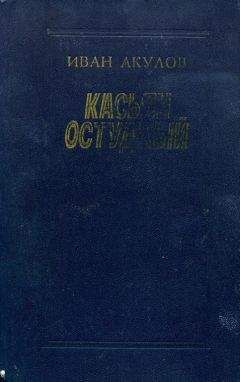— Вы это что, товарищ следователь, все с ужимочками да упрятками? Похоже, сговорились все. А? В чем дело? Что такое? Но?
— Пусть несут, товарищ Мошкин. Вы, юридически говоря, превышаете свои полномочия… Бог мой, дайте же слово… Посудите сами, не по-за деревне же им нести гроб. Да и покойный был здешним человеком. У него в селе через дом кум да сват, и вся родня хочет, чтобы его пронесли мимо их дома. Они, случается, и на ток и на поле с гробом заходят, а уж мельницу или кузницу покойного никогда не минуют. Прощанием это называется. Вот теперь и глядите.
— Кулак должен быть изолирован, и никаких ему ни кумовьев, ни сватовьев. Ему прямая дорога в могилу.
— Глядите сами, товарищ Мошкин. Я бы на вашем месте не вмешивался. Идут и пусть идут.
— Ну хорошо, — сдался Мошкин и снял свое пальтецо, повесил. — Пусть оплакивают мироеда. А мы потворствуем чуждым элементам, распоясываем их. Сами, товарищ следователь. Я это обдумаю. А теперь вернемся к плану. Товарищ Умнов, председатель, вызывайте в Совет по этому списку. Без меня все дело запустили. Хм.
Мошкин достал из внутреннего кармана вдвое по длине согнутую тетрадь и вынул из нее полоску бумаги. Подал Умнову. Сам сел на председательское место. Всеми пальцами постучал по кромке стола, жестко прищурился на Умнова, желая предупредить его возражения по списку.
— Братья Окладниковы, по-моему, повезли хлеб, — уведомил Яков Назарыч.
— Тем лучше для них, — повеселел Мошкин.
— Телятникова, должно, на свадьбу уехала.
— Нашла время. Вызывать.
— Оглоблин не придет. Наперед знаю.
— Мы придем. Передайте.
— Мария Пригорелова. Машка. А она зачем?
— Мне нужна для беседы, — пояснил Мошкин. — Давай наряжай. И быстро у меня.
Умнов прочитал еще несколько фамилий и, пожав плечами, направился к Валентине Строковой, чтобы послать ее на вызова. А Мошкин, вконец недовольный председателем, вышел из-за стола, сунул руки в карманы пиджака, оставив большие пальцы наружу, и стал прохаживаться от окон до дверей. Пиджак в обтяжку на бедрах сделал Мошкина с виду совсем неспокойно-вертким.
— Прямо, наверно, надо поглядеть — швах наши дела. Что же это, рассудивши, мы не дали и половины твердого задания. А председатель — теленок в кожанке. Ему никого неохота трогать. Охота добреньким быть. Это легко.
— Мы с вами, товарищ Мошкин, после плана сели да уехали, — сказал Жигальников и занялся окурком, откусил изжеванный конец, подул в засмоленную трубочку мундштука. Делал все это медленно, и Мошкин ждал, что еще скажет Жигальников. Но тот опять взялся курить обкусанную папироску и читать газету.
— Меня удивляет ваше спокойствие, товарищ Жигальников. Откуда оно? Как его понимать? Поведение Умнова вы, пожалуй, верно объяснили: не хочет портить отношений с земляками. А о себе как думаете? Может, выскажетесь.
— Да можно и о себе, товарищ Мошкин. Только вы сядьте, а то я не люблю, когда над душой качаются.
Мошкин сел на диванчик, плюнул на ладонь и приказал хохолок волос на макушке.
— Считаю, милиционера Ягодина неспроста вызвали в округ, — сказал Жигальников. — Он непременно привезет то, чего я жду.
— Думаете, отзовут вас?
— Думаю. Но не это главное. Главное — таких, как мы с вами, остепенят. Одернут. А то мы рьяно делаем план, и мужикам, уверяю вас, нечем будет засевать поля. Сверху сказали подоить крупных зажимщиков хлеба, а мы с вами берем всех без разбору. И этим наносим огромный ущерб Советской власти, задевая интересы не только середняка, но и пролетарской части села.
— Но план же, товарищ Жигальников. Вот он, — Мошкин выдернул из кармана перегнутую и затертую тетрадь, лизнул пальцы и стал перекидывать мятые страницы.
— Я вас, товарищ Мошкин, к жизни хочу повернуть, а вы все ныряете в свою тетрадь.
— Но — мы еще не тронули середняков, товарищ Жигальников. Что это вы все наговариваете?
— В списке, который вы дали председателю, значатся только середняки.
— Но что же делать, товарищ Жигальников? — Мошкин похлопал себя по вспотевшему лбу и ладонь тут же вытер о штаны на узком колене. — Нам даны полномочия. Нас предупредили, что дело пойдет трудно. Нет, не думаю, чтоб Ягодин привез послабление. Плана не дадим — по головке не погладят. Об этом меня тоже предупредили.
— И все-таки до Ягодина с вызовами погодить бы.
— Не время. Сроки кончаются, а дело ни с места. — Мошкин озабоченно встал и пошевелил лопатками, к которым вдруг прилипла взмокшая рубаха. — Ну хорошо, пусть будет по-вашему. Скажу, чтоб повременил с вызовами. Но гляди, Жигальников, по твоему настоянию останавливаю кампанию. Вовсе не верю, чтоб в таком исстари богатом селе не было хлеба. Водят нас кулаки за нос. Лукавят, мошенники. Как там у товарища поэта Маяковского? Умеет сказануть. За рекой деревенька. Бороды веником. И каждый хитр. Именно хитр. Сам себе на уме, понимай. Землю попашет, стихи попишет. Бездельники. Ни единому слову не верю. Двоедушный он мужик — был и будет.
Мошкин расстегнул пиджак и полами его обмахнул себе разгоряченную грудь. На другую половину дома, где сидела Валентина Строкова, пошел с неохотой. Дверь в комнату секретарши оказалась отворена, в комнате никого не было. Мошкин оглядел пустой стол и вдруг в окно, выходившее на дорогу, увидел толпу народа. Подошел ближе и из-за косяка стал глядеть на улицу.
Впереди всех, в высоких сапогах и без шапки вел под уздцы белого жеребца Харитон. Конь был накрыт черной попоной и тянул легкие санки — в них, держась за высокую резную головку, стоял плешивый сморщенный попик, сугорбый, весь спрятанный в потускневшую ризу. Попик немного наклонился на сторону и с навычной важностью махал сбоку санок. Когда кадило взлетало кверху, из него выпархивали клубочки бледновато-сизого дыма. По канону священник должен идти вместе со всеми пешком, но этот попик с желтой лысой головкой и обредевшей бородкой не в силах был шагать по грязной дороге, и его поставили в санки. За ним два старика несли пихтовый венок, на котором лежал японский картуз с высоким красным каркасом. Картуз этот Федот Федотыч принес с русско-японской войны и хранил как память о тяжком сражении под Ляояном. Затем шли двое, накрытые крышкой гроба, а следом шестеро мужиков несли гроб на белых скрученных полотенцах. За гробом рассыпалась толпа: все больше бабы и черные старухи с короткими посошками, из-за которых им, казалось, приходится низко сгибаться и неловко идти, уткнувшись в землю. Куцая процессия понуро шла мимо сельского Совета. Зато, ребятишки, умеющие выражать взрослых, пытливо искали за пустыми стеклами хоть малейшее проявление спрятавшейся там жизни, которая — верно знали они — тоже наблюдает и за дряхлым попиком, привезенным из Кумарьи, и за японским уродливым картузом, и за гробом, убранным пихтой, зеленым мхом и восковыми цветами. В жадных глазах мальчишек горело не детское любопытство, а затаенная отчужденность и выжидание.
«Скорбь на себя напустили, будто им в самом деле жаль его, а живому небось только и мыли кости», — не понимая толпы, злобился Мошкин, находя в подавленном взоре людей молчаливый, но враждебный вызов, на который не терпелось ему ответить. Напоследок шли хилые, отставшие старухи, бабы с младенцами на руках — на них нечего было глядеть. Вышел в коридорчик и рявкнул:
— Умнов!
Яков Назарыч вернулся из сенок, где наблюдал за процессией через маленькое пыльное оконце, залитое дегтем и в паутине с дохлыми мухами.
— Послал со списком?
— Сразу же.
— Ну раз послал — будем ждать.
Когда вошли в кабинет председателя, Жигальников лежал на диванчике, заметнув ноги на подоконник. В зубах держал папиросу и жевал ее, подмочив слюной табак.
— Я, кажется, товарищ Мошкин, нашел ответ на ваш вопрос, — сказал он, тряхнув газетой. — Вот. Весьма рекомендую.
Мошкин взял газету из рук Жигальникова и стал читать указанную статью, не садясь на место. Жигальников обсыпал пеплом серенький галстук и, отряхнув его, пригляделся к председателю:
— Что не весел, Яков Назарыч?
Умнов подсел на диванчик в ноги Жигальникову и, рассчитывая, видимо, на его понимание, открылся враз:
— Какой я теперь председатель — баба меня исхлестала. Батрачка. Вот я и вырешил: Егор Бедулев всяко способней. Пробивной. Одно слово, — вырешил я.
— Ну-ко, ну-ко, что ты вырешил? — подхватил Мошкин, становясь против Умнова.
— Бедулев пусть походит в председателях.
— А ты?
— Я что ж… мой авторитет потерянный.
— План по хлебу дашь — авторитет верну тебе.
— Авторитет, Борис Юрьевич, не зарплата, в кассе его не получишь. В город надо наведаться. — Умнов похлопал себя по карманам, совсем решил признаться, что потерял свой наган, но что-то удержало его на последнем слове и заулыбался нелепой улыбкой.