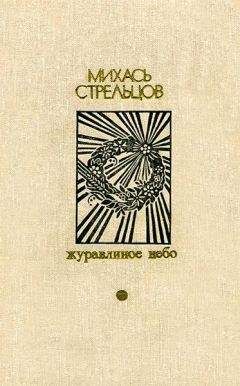Мысль Богдановича изящна в своей последовательности, но мы непозволительно обеднили бы ее, если бы нашли у Богдановича только это: читателю мы так или иначе дали бы возможность думать, что поэт видит в художнике некое подобие настойчивого и мрачного аскета, который в порыве высокомерной жертвенности уничтожает «кусочки грубой жизни», той жизни, над которой он сам вознесен искусством. Такая мысль у Богдановича в окончательном виде была бы нестерпимо рационалистической. И тот, кто хоть немного знаком с его творчеством, кто хоть однажды почувствовал дух его, не согласится с такой мыслью. И — справедливо!
Сила Богдановича как поэта и мыслителя в том, что он всегда остерегался однозначных решений, что вещи, явления он рассматривал всесторонне, в диалектической взаимообусловленности и противоречивости. Думаете, сам Богданович не чувствует, что вот так, в плане «олимпийской» роли искусства, можно толковать его слова о «грубости жизни» и о «жемчужных» россыпях поэзии? Очень даже чувствует, ибо, полемически обостряя и нарочито огрубляя свою мысль, отдавая ее своим возможным противникам как оружие против себя, пишет:
Вы мне говорите: душа у поэта,
Когда он певучие строки слагает,
Небесным огнем обогрета,
И выше других он взлетает.
Спасибо, спасибо, друзья дорогие;
Душа моя, верно, счастливой была бы,
Но знаю, что песни такие
Красиво выводят и жабы.
(Перевод А. Тарковского)
Что хочет сказать этим Богданович? О. Лойка замечает: «И в этом признание творческого процесса таким же обыкновенным явлением, как кваканье лягушек». И потом делает заключение:
«Жизнь для Богдановича всегда была первичным явлением, искусство — вторичным. Красивое в жизни, красивая жизнь. Поэтому и сказал Богданович: „Песни такие красиво выводят и жабы“».
Понятно, что мы согласны с утверждением О. Лойки о «первичности» жизни и «вторичности» искусства и с тем, что красота — это жизнь. Но не это, совсем не это хотел сказать своими стихами Богданович, и уж вовсе не то, что исследователь именует «признанием творческого процесса таким же обыкновенным явлением, как кваканье лягушек». Как раз наоборот, думается нам, — Богданович хотел сказать, что творческий процесс — это совсем не то, что «кваканье лягушек». Просто нужно внимательно прочесть это его стихотворение и связать с другими стихами, посвященными мастерству. И тогда мы заметим интонацию, с какой Богданович говорит о «кваканье лягушек». Не приравнивает поэт «творческий процесс» к этому кваканью, а, напротив, оскорбляется самой возможностью такого сравнения; оскорбляется как художник, который смотрит на творчество, как на сознательный процесс, требующий огромной затраты чувств и мыслей. Ибо «кусок грубой жизни» превращается в жемчуг все той же силой осознанных чувств. Ибо песни засверкают лишь тогда, когда раскалятся «в огне мучений». Вот почему поэта так смущает и не дает ему покоя это неосознанное, инстинктивное, но приятное «кваканье лягушек». И дело, значит, не в абстрактном, созерцательном утверждении «красоты», «художественности» жизни, а в драматически осознанном творческом акте. Далекая, неотступная тень Сальери видится поэту и здесь. И здесь присутствует давнишняя мысль поэта о сознательном и подсознательном в творческом процессе. Снова и снова оскорбляется Богданович «гуляками праздными» и «птичками божьими» в искусстве. Снова его здоровый, «рационалистический» дух восстает против божественного наваждения и всякого рода мистики в творческом акте.
Ценность стихов Богдановича об искусстве не в декларациях, а в драматическом, глубоко человечном и как бы личном постижении природы прекрасного. Драматизм — как в жертвенности искусства, так и в неизбежности его соперничества с жизнью, с природой, с красивым песнопением «жаб». Драматизм еще и в том, что не всегда это соперничество заканчивается победой искусства. Богданович, как честный мыслитель и художник, не может не указать на возможность такого исхода. Он, например, так пишет о «серебряных цветах», которые вырастил на стекле мороз:
Не воротить, не разбудить
Былого чувства им,
Как мне вовек не оживить
Его стихом своим.
(Перевод В. Державина)
Только не нужно откровенное и горькое признание поэта принимать за разочарование в возможностях искусства вообще.
Неосознанному, интуитивному творчеству природы человек-творец должен противопоставить сознательное начало. Так хорошо известные его слова о «не внезапности» в творчестве, о «спокойной мысли», о метеоре, который чертит в небе блестящую дугу, а «в глубине холодным остается», так хорошо известный его культ мастерства — это не только его индивидуально-творческое кредо. Это еще и результат философского постижения им коренных проблем художественной эстетики.
Богданович-теоретик и Богданович-поэт идут всегда рядом, рука об руку. Ему, требовательному мастеру, кажется, что степень мастерства того или иного произведения может быть установлена с помощью соответствующим образом разработанной математической шкалы. Мы не знаем точно, какой конкретный принцип хотел положить Богданович в основу этой шкалы: мысль поэта передается его современниками довольно упрощенно. Может быть, отчасти потому, что в тот «идеалистический» период нашей литературы, на том уровне литературной теории этот математический принцип Богдановича в приложении к искусству выглядел просто чудачеством.
Вспомним, что примерно в это же время Брюсов с полемическим задором пропагандировал идеи так называемой «научной поэзии», основателем которой считался Рене Гиль, пропагандировал, впрочем, не очень успешно, ибо эта школа даже на родине ее творца, во Франции, не имела большого числа сторонников. Вспоминая о «научной поэзии», мы никоим образом не хотим поставить поиски Богдановича в зависимость от нее. Это совсем разные вещи. Там были поиски поэтов в области материала самой поэзии, у Богдановича же — поиски в области науки о стихе. Говоря языком современного литературоведения и лингвистики, Богданович приближался к структуральному анализу художественной системы стиха — к тому анализу, который невозможен без применения математических методов описания и анализа. То, что некогда могло казаться чудачеством, сегодня стало нормой в литературоведческой теории.
Справедливо думать, что центр различных эстетических поисков лежит в решении кардинального вопроса эстетики — отношении искусства к жизни. Только непростительно ограничивать мысль Богдановича одним признанием эстетической пригодности этой жизни (мол, красивое — в жизни, красивая — жизнь). Для Богдановича это само собой разумеется, поэтому, кстати, он не особенно и акцентировал свою мысль на таком довольно общем решении вопроса, на решении, которое удовлетворило бы и «чистого» философа, но только не философа-художника, каким был Богданович. Красивое в своей жизненной функции — вот что постоянно тревожит поэта. Чем должно быть искусство — средством или целью? Если средством, то должен ли поэт целиком зависеть от потребителя? Если целью, то кто может быть судьей поэта? Богданович решительно стоит за самоопределение искусства — не в смысле его оторванности от жизни и самоцельности, а в смысле признания своеобразия его роли в жизни человека. Чтобы быть полезным, искусство должно отвечать определенным эстетическим нормам, но вот беда: эти нормы не всегда, как мы знаем, совпадают с нормами живой, опосредствованной жизни. Вот почему поэт не застрахован от несправедливого суда, вот почему он может сомневаться в своем назначении как художника вообще. Нужно ли кому-нибудь его искусство? Достоевский как-то писал:
«Даже у Пушкина была эта черта: великий поэт не однажды стыдился того, что он только поэт. Может быть, эта черта встречается и у других народностей, однако навряд ли. Навряд ли, по крайней мере, в такой степени, как у нас. Там от давнишней привычки к делу всех и каждого успели рассортироваться занятия и значения людей, и почти каждый там знает, понимает и уважает себя — и в своем занятии, и в своем значении. У нас же… немного иначе. Затаенное, глубокое внутреннее неуважение к себе не минует даже таких людей, как Пушкин и Грановский».
Припоминаете, что это чем-то сродни мысли Чернышевского о «разделении труда» в обществе, о том, что в молодом обществе литература не может быть только литературой. Пушкину стыдно, что он «только поэт», хотя, как известно, «только поэтом» он не был. Хотя он и заявлял, что поэт рожден не для «житейского волненья, не для корысти, не для битв», — но это было понятной реакцией на те уродливые формы зависимости поэта от общества, какие часто вырабатывает жизнь. И Богдановичу было стыдно, что он поэт. В «Апокрифе» музыкант говорит Христу: «…стыдно мне, ибо сегодня трудовой день, и все хлопочут вокруг него, один я никчемный человек». И Богданович, как и Пушкин, в иные минуты горячо и страстно обороняет свое право на звание художника. Христос отвечает музыканту: