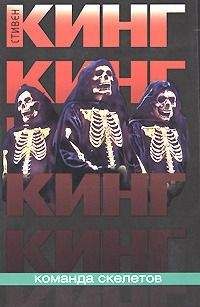— Нато? — удивилась госпожа Елена.
— Как тихо здесь у вас, — сказала Нато.
Театр до этого дня исчерпывался для нее утопающим во мраке, наполненным зрителями просторным залом и раскрытой перед ним, как врата некоего таинственного сказочного мира, сценой. А эта комната ничем не отличалась от любой другой комнаты в любом учреждении. В комнате стояли письменный стол, два стула (на одном сидела она сама, на другом госпожа Елена), объемистый, заставленный перенумерованными папками шкаф и черный кожаный диван с такими же кожаными валиками, обивка которого была испещрена белыми трещинами. Со стен свисали концы отклеившихся обоев.
— Как тихо тут, — повторила Нато в замешательстве.
Госпожа Елена улыбнулась вместо ответа какой-то торопливой улыбкой. Она была взволнована не меньше Нато, но раз уж впустила ту, пригласила сесть и в знак внимания закрыла развернутую на столе папку и положила сверху ручку, то теперь должна была волей-неволей оставаться внимательной и учтивой до конца. А Нато говорила, говорила и сама удивлялась тому, что срывалось у нее с языка; все это было вполне искренне, она так именно и думала, но не для того же она пришла сюда, чтобы сказать, что и владелец театра, и режиссер — дураки, что они ничего не понимают, иначе не выпускали бы на сцену в ролях красивых женщин Амалию, Флору или Элико, а поручили бы играть эти роли госпоже Елене, которая и без грима гораздо красивее их и у которой гораздо больше поклонников, хотя она и редко показывается на улице, да еще с лицом, закрытым черной вуалью, тогда как они, Амалия, Флора и Элико, каждый вечер строят зрителям глазки со сцены.
Госпожа Елена попыталась сосчитать до десяти, а когда это у нее не получилось, быстро, чтобы скрыть волнение, отвернула лицо и посмотрела в окно. Там, за окном, виднелись угол асфальтированного двора и глухая кирпичная стена, к которой были прислонены старые, выцветшие и облупленные декорации. Госпожа Елена все еще не могла примириться с мыслью, что теперь ей придется терпеть присутствие Нато, пока той не придет в голову самой прервать свой неожиданный визит. Разумеется, ей следовало сразу, с самого начала, выставить непрошеную гостью, сказать ей: «Если у тебя есть ко мне дело, приходи домой, а здесь я на службе и у меня нет времени слушать твои бредни». Меньше всего она ожидала увидеть сейчас Нато, к тому же здесь, в театре, к тому же в этот час; да и вообще меньше всего на свете могла ее сейчас обрадовать встреча с Нато. При виде бледного, испуганного лица Нато она чуть было не лишилась чувств; еще немного — и ее пришлось бы приводить в себя, а этого она никогда не сумела бы себе простить. Но, к счастью, страх тут же сменился в ней гневом, потому что она сразу поняла, зачем явилась к ней эта дерзкая, самонадеянная девчонка. Еще одну капельку яда припасла она для госпожи Елены: ваш сын, как бы говорила она, должен быть по закону со мной, но у меня его нет; не у вас ли он случайно? Она пришла за своей собственностью — так заходит хозяйка искать свою курицу во двор к соседке. А госпожа Елена чуть было не повалилась ей в ноги, чуть было не взмолилась: «Расскажи мне, что ты узнала о Геле». К счастью, госпожа Елена сумела вовремя удержаться, овладела собой. Гордость, самолюбие придали ей твердости, а главное — убеждение в том, что Гела пока еще принадлежал ей, ей одной — живой или мертвый. «Найду его живым или мертвым», — сказал полицмейстер, потому что и он не знал, жив или мертв Гела. Никто не знал этого. И все же не вытерпела госпожа Елена, не смогла преодолеть любопытства, не удержалась от лишнего вопроса; ведь только Нато знала, от одной лишь Нато могла она услышать то, что не имело никакого значения для полиции и для правосудия, а именно: каким был Гела в тот, последний день, как выглядел, какой у него был голос, какое лицо, не испугался ли, вспомнил ли мать, перед тем как пропасть, исчезнуть, оторваться и от матери, и от Нато. Но Нато не удостоила ее вразумительного ответа, бросила только коротко, вскользь: «Был такой, как всегда», — и продолжала нести свою галиматью. Она объяснялась в любви госпоже Елене, восхваляла ее, пела ей дифирамбы, и госпожа Елена вынуждена была терпеть и принимать эти хвалы. Когда же Нато совершенно неожиданно завершила какое-то рассуждение пожеланием, чтобы поскорее началась война и от всего мира остались одни развалины, госпожа Елена невольно кивнула, как бы соглашаясь, как бы одобряя ее, — так учительница поддакивает ученице, которая ничего нового не говорит, но и придраться к ней нельзя, потому что все это написано в книге. И поэтому приходится слушать ее и соглашаться. Так бывает с человеком во сне — все, что происходит с ним и вокруг него, обладает непреложностью, убедительностью, подлинностью сновидения, и сновидец ни на мгновение не может усомниться в том, что эта непреложность, убедительность, подлинность останется неизменной и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. Нато была сном госпожи Елены. Дурным сном. Но сон на то и сон, что рано или поздно прерывается пробуждением и человек сразу забывает его, или если и не забывает, то все пригрезившееся кажется ему бессмысленной чепухой. Видимо, Нато улавливала чутьем все это и потому говорила, говорила, перескакивая с предмета на предмет, чтобы не выпускать из-под своего гипнотического воздействия госпожу Елену, чтобы длить свою власть, ни на чем не основанную, а обретенную благодаря беззастенчивой наглости, в минуту потрясения или по причине минутной ошибки своей жертвы, паучью, сковывающую, как дурман или как яд, власть над выключенным, затемненным сознанием матери Гелы. Восторгами и комплиментами старалась она завлечь госпожу Елену обратно в мир сновидений. Пела ей дифирамбы и превозносила ее, чтобы, подняв на воображаемый пьедестал, одурачив хвалами, сбив с толку, опутав, как паук глупую муху, паутиной лести, потом легко, шутя сбросить ее с высоты. «Если бы вы чаще показывались людям, может, они не были бы такими дикими, такими бессердечными и беспощадными», — говорила Нато. (На прошлой неделе какие-то пьяные схватили беременную женщину, положили ей поперек живота доску и стали раскачиваться на этих качелях; у женщины начались преждевременные роды. Боже мой, боже мой, чего только не услышишь в театре!) А Нато не умолкала: «Такой женщине, как вы, люди должны поклоняться, как божеству; а вы ходите в лавку за хлебом и сами кипятите себе чай: да что там, вы даже керосин покупаете и носите домой сами! На днях я видела вас — вы были похожи на богородицу, только вместо младенца в руках у вас была бутыль с керосином. Будь я мужчиной, построила бы для вас хрустальную башню, ветерку не давала бы на вас повеять. (Со смехом.) Миллионершей бы стала, потому что бесплатно никому не позволяла бы на вас глядеть… (Такая Елена уже была, милая Нато, когда-то давно. На картине. Картина — блудница.) Вы не знаете, вы даже не можете себе представить, как я вас люблю; я приносила бы вам и хлеб, и керосин, если бы имела на это право…» (Разумеется! Готова украсть у матери последний кусок сахара и прибежать с ним ко мне. Чтобы еще раз увидеть, как я страдаю. Вот вам сахар, только позвольте на вас смотреть. Вам сахар, а мне удовольствие. Боже мой! Какая я злая! Какие глупости лезут в голову!)
— Какая ты глупенькая, Нато — улыбнулась госпожа Елена.
— Мамой вам клянусь, правду говорю, — еще больше распалилась Нато.
Кто-то пробежал по коридору. Где-то хлопнула дверь. Из приоткрывшейся на мгновение двери выскользнул обрывок фразы: «Цезари умирают один раз», — словно вырвавшийся из клетки зверь пронесся по объятому могильной тишиной театру и, после того как вздыбленная шерсть у него улеглась и дыхание успокоилось, вылетел наконец из театра на волю. А для госпожи Елены театр был единственным убежищем, островом в океане, единственным местом, где ее одиночество, горе, ожидание, муки не просто меняли облик, а наполнялись обманчиво прельстительным смыслом, облекались сиянием величественного, возвышенного, вечного, — так Цезарь заворачивается в тогу; и порой она даже думала, что если бы ее жизнь разыграть на сцене, то драма эта поражала и потрясала бы души зрителей. Правда, на сцене она, возможно, была бы вознаграждена цветами и аплодисментами за то самое, что принесло ей в действительной жизни суровую кару, наказание, которое она отбывала в любом другом месте — на улице или дома. В любом другом месте прошлое представлялось ей лишенным смысла и причиняло лишь стыд и угрызения совести. И эта чужая, чужой памятью пронизанная комната была наказанием за ее прошлое, и она каждый вечер стлала себе одинокую постель, на которой даже кошка устраивалась с брезгливостью; и каждые пятнадцать минут, пронзенная стрелой часов-амура, очнувшись от грез, она прижимала к груди все ту же сонную, недовольно урчащую кошку и все так же задыхалась в пыли, оставшейся от чужой, минувшей жизни. А театр был спасительным островом, где ее жизнь могла представиться кому-нибудь в ином свете; здесь она переводила дух, вынырнув из моря своей кары, чтобы вскоре вновь погрузиться в пучину — глубже, до самого дна, до собственного трупа, до похороненного в черной раковине своего трупа; чтобы пощекотать кончиком зонтика под створкой раковины, заставить свой труп очнуться от смерти, рассеять его блаженное небытие; и, наконец, театр был единственным местом, где она не думала о муже, не ощущала мужа, не замечала мужа, как человек, попавший в брюхо льва, не замечал бы льва. И вот Нато настигла ее и в этом убежище, ворвалась и в это место минутного отдыха со своими женскими дарами — сбрызнутыми ядом комплиментами; и более того, тотчас же напомнила госпоже Елене о муже, оживила в ее памяти мужа: говорила с ней, расхваливала и превозносила ее, как это делал муж, точно так же, как муж, клялась ей в любви; казалось, Нато вызубрила несуществующую стенограмму ночных, постельных монологов ее мужа, которые и произносила, в совершенстве воспроизводя его манеру, — вот точно так же, как сейчас Нато, говорил ей муж: восторженно, с бледным лицом и со столь характерным для него патетическим простосердечием, как бы даже преувеличенным, чтобы не оказаться в неловком положении из-за своей искренности, чтобы слушатель принял наполовину в шутку то, что он говорил, но чтобы притом все же прямо и откровенно высказать то, что было у него на душе в данную минуту и что иначе он и не мог бы выразить, — не потому, что вынужденно говорил то, чего не хотел сказать, а потому, что непроизвольно высказывал именно то, что и хотел сказать; говорил, как бы признавая какую-то свою вину, свой недостаток, свою слабость. Вот почему, наверно, перед мысленным взглядом госпожи Елены стоял ее давно умерший муж. Она слушала Нато и видела покойного мужа, задрапированного в тогу Цезаря, двадцать три раза пораженного кинжалами и один раз умершего. И убит он был не последним ударом кинжала, а всеми двадцатью тремя одновременно, единожды. Он и раньше являлся ей, но никогда не казался таким живым. Он даже был более живым, чем до того ужасного дня. Смущенный, немного растерянный, как Нато, стоял он перед нею и улыбался, горделивым жестом положив руку на эфес своего меча, как знаменитый, но неожиданно для всех провалившийся актер, нашедший, однако, в себе силы, чтобы держаться с достоинством в тягостный для него день, и с нетерпением ожидающий минуты, когда он наконец сможет уйти отсюда, с этой проклятой, неблагодарной, ничего не прощающей, высасывающей его талант и силы сцены, чтобы за кулисами, с размазанным от слез гримом на лице, прижаться лбом к фанерной колонне декорации — низвергнутый, простертый в пыли в глазах завистливых, вечно с надеждой ожидающих его низвержения, его падения товарищей-актеров, в глазах матери Гелы, матери и отца матери Гелы или Лизы и других, им подобных, что толпятся сейчас за его спиной, увенчанные чужими коронами, обряженные в чужие мантии и осыпанные чужими драгоценностями, но изумленные и подавленные тем, что видели и чего не ожидали не только от Цезаря, но и от играющего роль Цезаря лицедея. Госпожа Елена встряхнула головой, чтобы спугнуть это странное, совершенно неожиданное видение. На столе лежала оставленная кем-то ветка мимозы. Оставленная или забытая? Впервые сейчас заметила она цветок. В комнате душно пахло мимозой. Госпожа Елена встревожилась. Кто здесь был до Нато? Нато не приносила цветов. Вряд ли принес их и мертвый муж. А впрочем, почему не мог умерший поднести ей цветы? Она нерешительно взяла мимозу со стола и мгновенно успокоилась, по-детски обрадовавшись тому, что ветка оказалась вещественной, настоящей. Могла ведь ее рука наткнуться на пустоту? Она понюхала мимозу и выбросила ее в окно. Откуда-то сверху послышался звонкий женский смех. Нато удивленно, с застывшей улыбкой смотрела на госпожу Елену.