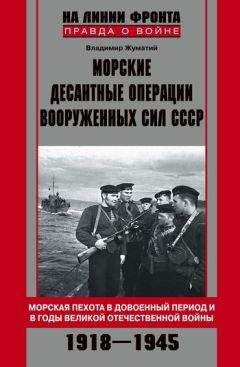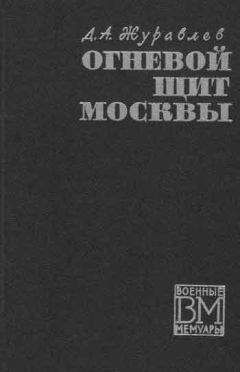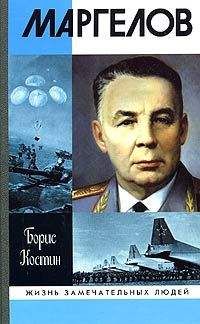Сижу за столом, жую холодную картошку «в тулупах» и соленые огурцы. Топить печку, варить или греть что-нибудь не время. Ночной, неурочный дым может вызвать подозрение. Здесь стараются жить как можно незаметней. Степанида Михайловна раздевает картошку и облупленную подкладывает мне. Танюшка, сидя напротив, рассказывает шепотом про Настёнку.
Ее схватили в соседней деревне, куда она пошла по своему делу. Наладить связь с Настёнкой еще не удалось, и пока неизвестно, как схватили ее — по доносу, по подозрению или по разбойному фашистскому обычаю хватать всех на принудительные работы.
Танюшка будет разведывать обстановку, налаживать связи, а мне это время сидеть в подземелье. Возможно, я не потребуюсь, но теперь все темным-темно, и если уж я пришел, то следует дождаться ясности. А впрочем, могу уйти, пусть сам и блюду и нарушаю свои солдатские обязанности, Танюшка не будет ни уговаривать меня, ни отговаривать.
— Что ни делайте, я и не подумаю уходить.
— Ваша воля — ваш и ответ.
Танюшка достает из кармана тюбик какой-то пасты, берет в печке уголек и, распорошив его на ладони, перемешивает с пастой, затем перед маленьким дорожным зеркальцем безжалостно безобразит себе лицо этой сине-черной смесью.
— Что ты делаешь!.. — зашипел я на нее.
— Навожу парад, — сверкнула незнакомой, диковатой ухмылкой.
— Перестань, довольно!
— Мне лучше знать. — И разрисовала себя до полной неузнаваемости: молодое отважное лицо стало изношенно-блеклым, покорным, большие ясные глаза уменьшились, потускнели, рот приобрел усталую, унылую складку. Мазь похоронила все огневое, задорное, что есть в лице у Танюшки.
Она пообещала навестить меня вечером и ушла. Митька вернулся с улицы в дом и лег на горячую печку досыпать. Ночи уже холодные, и парень сильно продрог, Степанида Михайловна встала на колени молиться перед иконами. Я заполз со своим скарбом в подземелье.
Над землей проходят дни, ночи, пылают восходы и закаты солнца, загораются и потухают звезды, плавает луна — самая главная подруга и помощница десантников, а в моем подземелье все время одинаково черная тьма.
Выползаю из своего заточения только раз-два в сутки на самое короткое время. По вечерам приходит Танюшка, делает мне перевязку, рассказывает новости. Немцы сильно укрепляют село Свидовок. О Настёнке все то же — ее держат в Свидовке, в подвале гестапо.
Самое большое событие в моей жизни — обваливается землянка. В ней уже нельзя сидеть, трудно поворачиваться и дышать. Надо убирать куда-то лишнюю землю, хоть глотай ее. Надо торопиться, ведь земля может рухнуть сразу большим обвалом.
Надо что-то делать, пусть безрассудное, опасное, но делать.
Говорят, что нет ничего страшнее смерти. Я не умер, но мог умереть не раз и вот теперь чувствую, что тяжелей, страшней, досадней — это быть живым, вооруженным, знать, что нуждаются в твоей помощи, и не иметь возможности подать ее. Сейчас мне вынужденное бездействие страшней смерти. Но я перенесу все, а спасу Настёнку!
Заслышав в хате шлепанье босых Митькиных ног, я выполз из тайничка и сказал:
— Больше не могу. Надо убирать землю. Подумай, куда прятать ее!
— Когда убирать? Сейчас? — Митька готов хоть когда. Не парень, а сама отвага в человеческом облике.
— До вечера пролежу как-нибудь. — И вернулся в подземелье.
Митька для отвода глаз вырезает в саду сушняк и ненужные побеги, пасет козу, переговаривается с соседями, потом звенит лопатой, натачивая ее напильником. Мне все слышно: земля — хороший проводник звуков. Вечером, когда я выползаю на перевязку, Митька говорит, что нашел для земли место. Немцы ждут наступления красных, готовят везде окопы, а народ по деревням роет бомбоубежища, щели, Митька тоже решил вырыть щель, уже начал. Под эту бирку можно вычистить и подземелье: вся земля вывалена будто бы из щели.
Ночь. Степанида Михайловна оглядывает из окна улицу, я чищу подземелье, Митька уносит землю в сад, перемешивает с вываленной из бомбоубежища.
За этим делом застала нас Танюшка, подала мне сразу обе руки и вышепнула такое желанное и долгожданное:
— Нашла Настёнку. Ее водят на окопы. Я послала ей писульку. Завтра попытаюсь свидеться.
— Это разве трудно? — спросила Степанида Михайловна.
— Не знаю, не пробовала. Ее держат под конвоем.
Танюшка переменила мне повязку и принялась разрисовывать себя. Она безобразилась каждый день по новому, сейчас ей потребовалось обрядиться и нарисоваться замызганной, оголодалой, слезливой нищенкой.
— Вам придется пожить без меня, — сказала она, обрядившись. — Но я постараюсь быстро, мигом. Счастливо оставаться!
— Ты куда? — Я схватил ее за руку.
— На окопы, к Настёнке.
— Она, говоришь, под конвоем.
— Ну и я под конвой.
— Ты серьезно?
— Как выйдет.
— Все-таки скажи, что задумала! — привязался я к Танюшке.
— Уже говорила: на окопы.
— Придешь и скажешь: «Берите меня на окопы»?
— Так с немцем нельзя. Немец не отправит, куда хочешь.
— И как же ты попадешь?
— Надо показать, что я не хочу на окопы. Вот тогда отправят.
— Ну как ты покажешь?
— Некогда тарабарить, некогда. Все! — Танюшка шутливо топает на меня ногой. — Марш под печку! Отъедайся, отлеживайся, скоро будешь нужен. — Потом она взвивается вихрем, целует на прощанье меня, Степаниду, Митьку и, послав нам еще общий воздушный поцелуй, выпархивает из хаты.
Распрощались перед утром, а днем Митька принес с улицы такую историю: в деревню забрела глупая нищенка и давай канючить в каждой хате без всякой опаски: «Подайте ради Христа!» В одной из хат наткнулась на немцев. Они завтракали. Нищенка и к ним сунулась с протянутой рукой: «Подайте…»
«Чего тебе надо?» — спросил старшой немец.
«Хлеба».
«Хлеб надо зарабатывать», — и сдал нищенку в команду, которая распоряжается окопниками.
Мы с облегчением подумали, что глупая нищенка — наша умная, сообразительная Танюшка.
Ни Настёнки, ни Танюшки и никакой весточки от них нет уже несколько дней. Я по-прежнему лежу в подземелье.
Всю томительную пустопорожность моего времени заполняет Степанида Михайловна своим горячим коленопреклоненным молением.
Теперь, когда идет война, когда столько несчастных, нуждающихся в помощи, надо бы особенно сильно вмешаться богу в нашу человеческую жизнь. Но всемогущий, всемилостивейший, вездесущий… глух, слеп к молитвам, воплям и страданиям.
Я не нашел бога. Ну и бог с ним, пусть не будет его! Зато я нашел вечную, бессмертную жизнь.
Ведь жизнь существует не отдельно от Вселенной, а вместе, в полном слиянии с ней, можно сказать, что Вселенная и жизнь — одно, это — вечное движение, вечная переменчивость вечной материи. Во Вселенной нет уничтожения, а только перемены. Горение и затухание звезд, образование планет из космической пыли и обратное превращение их в космическую пыль, стирание и возникновение гор, все сущее — жизнь. Все то, что мы называем смертью, — только переход жизни из одной формы в другую, только ступеньки в бесконечной лестнице жизни.
Как в любой лестнице нет ступенек важных и неважных, а все ступени — нижние, средние и верхние — одинаково нужны, чтобы получилась полная лестница, так и в лестнице жизни одинаково важны и нужны все и всякие формы, чтобы получилось полное колесо, полный круговорот бытия.
И еще я нашел бесконечное множество Корзинкиных, своих братьев-близнецов. Не знаю, как правильно назвать их, и пока буду называть небесными братьями. Вселенная населена несчетным числом звезд и планет. И там определенно есть уютные уголки, наподобие нашей Солнечной системы, с таким же Солнцем, с такой же Землей, даже точь-в-точь такие, как Земля, с таким же климатом, растительностью и животным миром, с таким же человечеством. Вселенная безгранична, возможное однажды возможно и второй, и третий, и сотый раз… Звезд, планет, зверей, людей, всего существующего бесконечно много, оно бесконечно разнообразно и существует все не в единичном, не в малом числе, а повторено бесконечно много раз.
Мысль о бесконечности Вселенной, о бесчисленности звезд, планет, человечеств и таких человеков, как я, моих двойников, сначала примирила меня со смертью. Если наше Солнце во Вселенной — только свеча, даже меньше, только бесконечно малая искра, то сколь же мал я. Мне можно и умереть, от этого не будет ущерба ни Вселенной, ни человечеству.
А потом эта же мысль о беспредельности Вселенной, о бесчисленности таких, как я, толкнула меня в противоположную сторону — во мне как никогда еще вспыхнула жажда жизни. Если нас, таких, бесчисленное множество, значит, и я не ошибка природы, не случайно взращенный сорняк, а законный, нужный сын матери — Вселенной. Так с какой же стати погибать мне прежде времени?! Почему из всей бесчисленности смерть избрала меня? Это несправедливо, это произвол. Я хочу жить, как и все другие. Хочу жить не в своих двойниках, раскиданных по Вселенной, а сам в этом облике, в этом теле, которое могу ущипнуть. Хочу жить, любить, видеть Солнце, звезды, думать, ненавидеть, бороться.