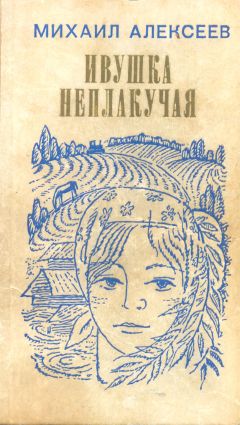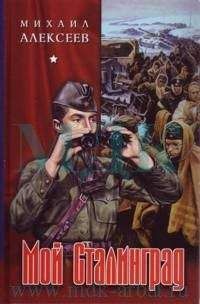— Знамо, спелись, — отозвалась Катерина Ступки» на, — нашу, сынок, песню одному-то человеку не вытянуть. Вот мы и…
— Ты, тетенька Катерина, помалкивай. Не о тебе речь. А Феньке я все припомню!..
Феня остановилась как вкопанная, минуту думала о чем-то, что-то решая. Затем, подтолкнув Марию к другим женщинам, передав таким образом ее на их корот кое попечение, вернулась, приблизила свое бледное даже в отсветах пожара лицо почти вплотную к лицу Федора, долго глядела так. Сказала коротко:
— А ну, гад, повтори, что ты сказал!
— Пошла ты…
— Повтори, говорю! Слышь? «Мокрохвостые»? Ах ты, зас…нец несчастный! А кто тебя всю войну кормил, поил? Кто одевал, обувал? Мы, «мокрохвостые»! Без нас бы ты и без немецкой пули окочурился… Что лапаешь свои медали?.. Не ты один вернулся с войны в медалях, да что-то никто так не бушует. Разобраться надо сперва во всем, а потом уж воевать… Ишь скликал все село, бесстыдник! Все Завидово взбулгачил. Глядеть на тебя тошно — ге-э-рой!
Феня, очевидно, решила, что этих слов вполне достаточно, чтобы расплатиться с неразумным мужиком и за себя, и за подругу, а потому и отошла вновь к тому месту, где сгуртовались ее односельчанки — с минуты на минуту их число становилось все большим и большим.
Оправившись от временного замешательства, Федор закричал вдогонку Угрюмовой:
— Убью и тебя, сводницу! И Машку, и ее выбляд-ка — всех!.. И энтова Тишку Непряхина прикончу!., Всех, всех!
— Ладно, — совершенно спокойно сказал дядя Коля, незаметно подошедший сюда вместе с Санькой Шпи-чем, — всех побьем, никого не оставим в живых, но только потом. А теперь, Федяша, пойдем-ка ко мне, посидим малость, потолкуем…
— Это ты, дядь Коля? — Федор перестал вдруг брыкаться, поглядел на склонившегося к нему старика виновато, робко как-то и одновременно с какою-то надеждой. Попросил: — Скажи им, чтобы отпустили меня…
— Отпустите, ребята. Федяшка — парень разумный, разве вы не знаете?
— Спасибо тебе, дядь Коля, а то все на меня… А где они были?.. — Федор оглядел всех разом: и Точку, и Авдея, и присоединившегося к ним Шпича, и даже Ветлугина. — Где, спрашиваю, они были, когда я…
— Были они все там, где и ты, Федя. Так что правду тебе сказала Фенюха: разберись сперва, а потом уж и буйствуй. А покамест пойдем ко мне. Я вчерась еще хотел прийти к тебе, да прихворнул — кости мои старые раскапризничались, так разломились, что моченьки никакой не было. Пойдем, сынок. А вы, бабы, по домам! Ишь нашли спектаклю! Веселого тут мало. Марш, марш по избам. И вы, мужики, тоже. Мне с Федяшкой одному надо побыть, без свидетелей потолковать. Айда, Федя. Старуха моя рада будет, ты, знать, забыл, что она тебе крестной доводится, крестила тебя с кумом Максимом Паклёниковым. Пойдем, голубок…
Необыкновенно покорного, обмякшего вдруг, по-ребя-тишьи пошмыгивающего носом Федора дядя Коля увел куда-то в темноту, должно быть, и вправду взяв направление к своему дому.
На том и закончился первый и, судя по обстоятельствам, далеко не последний бой у этого крохотного человечьего гнезда, на ничтожно малом кусочке огромной планеты, по которой только что прокатилась грозная колесница великой войны, позаботившейся о том, чтобы никто пз сущих на этой горькой земле не был обойдеп ее милостью. Толпа разошлась, растворилась в темных проулках, скрывшись за плетнями, заборами и калитками других человечьих гнездовий. На прежнем месте какое-то время оставались только Мария Соловьева, Феня Угрюмова и Авдей Белый. Стояли они молча, вроде бы прислушиваясь к треску догоравших и рушившихся наземь стропил, к звонкому стрекоту сверчков, успевших вовремя покинуть амбарные выщербинки, где до этого укрывались. Первой нарушила молчание хозяйка потревоженной хижины. Сказала, ежась, лишь теперь почувствовала зябкую ночную прохладу:
— Спасибо, Фенюшка дорогая, но к вам я не пойду. Как можно?
— Почему же? — спросила Феня с нескрываемой обидой.
— Ай не знаешь почему? — выдохнула Мария. — Мать и так жизни тебе не дает, а коли я еще нагряну с мальчишкой да со своими грехами, Аграфена Ивановна и вовсе со свету тебя сживет. Разве можно! Ты, знать, вгорячах пригласила. Сердечушко-то у тебя доброе. Но ты не беспокойся обо мне. Никто не виноватый в моей беде, окромя меня самой. Останусь я дома аль на крайностях к Апрелю подамся, к Артему Платонычу, как-никак дядя он мне, не выгонит, чай… И тетенька Прасковья не станет перечить…
— Ты вот что, Мария, ты нынче же и отправляйся к Апрелю. Тут тебе оставаться нельзя. Федора долго не удержишь в доме Николая Ермиловича, — сказал Авдей.
— Правда, Маша, иди теперь же к своему дяде. Хочешь, я отведу тебя туда? — поддержал его Сергей.
— Нет уж, Сережа, я сама. Да и вы идите. Досыта, поли, наопохмелялись на моей пирушке. Мне вот еще переодеться нужно, — и она оглядела себя, горько хмыкнула: — Хороша, нечего сказать! Домарьяжилась девонька! Ну что ж. Любила кататься, люби и… А! Да все равно теперь. Ну я пойду, а вы не ждите.
Они все-таки дождались ее — проводили, непохожую на себя, по-монашески тихую, с узелком, в который наскоро сложила что-то из шоболов, — проводили до самого Апрелева дома, для верности постояли у окон, прислушиваясь к тому, как будет встречена Машуха Соловьева не слишком-то близкими ей родственниками. Ушли к себе только тогда, когда после короткой сумятицы в доме погас возжженный было светильник, и все стало тихо.
— Слава тебе господи, кажись, приняли — не выгнали. — Феня неожиданно для себя даже перекрестилась.
Авдей и Серега собрались теперь проводить Феню, но она решительно отказалась, так что им пришлось отправиться к Авдотье Степановне. У самых, однако, ворот своего дома Авдей замялся, заговорил невнятно:
— Ты вот что… ты, Сережа, иди… А я тут… я тут…
— Хорошо, хорошо, — заторопился Сергей, отлично понявший своего двоюродного брата. — Иди скорее. Может, еще догонишь.
— Спасибо! — почему-то поблагодарил Авдей и прибавил, оправдываясь: — Да я скоро…
— Давай, давай жми! — Сергей засмеялся, дал доброго тычка Авдею и бегом влетел в избу, встреченный хозяйкой прямо у порога.
— А где ж сынок-то мой?
— Сейчас вернется. А ты чего, теть, не спишь?
— Ох, Серега, да какая же мать уснет, когда сын ее…
— Сын-то, тетка Авдотья, не малое дитя. Чего же тут беспокоиться?
— А вот когда у тебя будут свои детки, тогда и узнаешь, чего это убиваются родители о своих птенчиках.
— Ничего себе птенчик — двадцать шесть лет.
— Для матери он завсегда птенец, — сказала она, как будто обидевшись, спросила еще раз: — Где ж он? За ее хвостом, поди, увязался? Ты уж, Сереженька, правду мне скажи, не обманывай тетку родную… Фенюха увела? Да?
— Зачем же увела? — заговорил напрямик гость. — . Сам пошел. И напрасно ты, тетенька…
— А это уж, племянничек, мое дело, — сурово пресекла старая. — Что он у меня, Авдеюшка-то, аль судьбой обижен, чтобы чужие объедки по чужим дворам подбирать? С кем толечко не путалась эта Фенюха, а теперь на шею к моему сыну кинулась… Срам! Мне и на люди-то стыдно выйти, глазыньки показать не могу честному народу! Невест, что ли, в нашем Завидове для него мало! Взять хотя бы Наденку Скворцову — г пер-веющая красавица на селе, чем бы не пара ему?! Так нет, приворожила проклятая Фенька эта, околдовала, змею-ка, часу без нее не могет пробыть, извелся весь…
Сергей терпеливо ждал, когда тетка его выговорится до конца, и, дождавшись, спокойно начал:
— Вот уж истинно сказано кем-то: в любви человек слеп…
— Ну, ну, — быстро подхватила Авдотья, принудив гостя опять смолкнуть. — А я о чем же толкую! Об этом самом.
— Ты-то об этом, а я о другом, — продолжал он, чувствуя, что начинает злиться. — Материнская твоя любовь к единственному сыну не его, а тебя сделала слепой. Иначе бы ты не устраивала гонений на женщину, равной которой нет на селе. И Авдей твой может быть счастлив лишь с ней, с Феней, и больше ни с кем. Разве это трудно понять? Ежели вы разорвете их связь, сделаете несчастными и его, и ее, да и себя самою. Вот увидите. И ты еще вспомнишь мои слова, тетка Авдотья… Сейчас я иду к правлению — мне пора на станцию. — Он скрылся в передней, через минуту вернулся с чемоданом в руках, крепко обнял молчаливую, напуганную горячей его речью хозяйку и быстро вышел из дома.
Двумя часами позже поезд увозил его на запад — подальше от родного Завидова с его постоянными, непреходящими и новыми, не совсем и не во всем понятными тревогами и заботами. В голове и, кажется, в сердце больно торчали дяди Колины слова: «Что нам делать с Машухой Соловьевой?..» «В самом деле, — билось в груди Сергея, — что им делать с нею, со всеми другими, похожими на нее? Где те сильные и ловкие пальцы, которые развяжут все эти страшные узлы? А я-то, чудак, думал, что с последним нашим выстрелом на земле наступит рай. Ничего себе рай!»