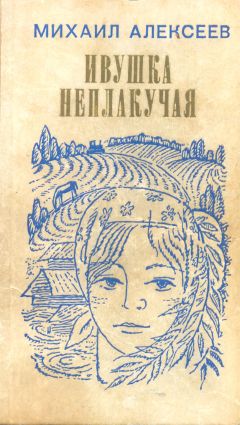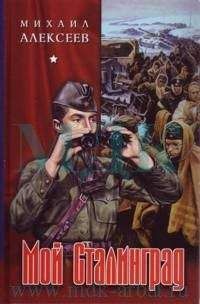Он глядел в окно, навстречу бежали кусты с пожелтевшими, сморщенными листьями, промелькнула сорока вместе со своим большим полуобнажившимся к осени гнездом, она провожала поезд точь-в-точь как вон та одинокая женщина на малом, забытом всеми разъезде — провожала глазами, не заботясь, наверное, обременить себя мыслью, куда он, поезд, катится, и что за люди в нем, и куда они направляются, что их гонит, какая нужда…
Вспомнив во всех подробностях увиденное за эти три неполных дня в родных краях, он с больно сжавшимся сердцем спросил себя: «Неужели это и было то, о чем грезилось на военных дорогах и потом, после войны, там, на далекой чужбине? И зачем я приезжал? Что я мог привезти своим землякам? Чем помог им?»
Мельтешение кустов, бешеная встречная скачка телеграфных столбов, светофоров, шлагбаумов с их длинными ручищами, тонкие, распиливающие синь небес строчки проводов, унизанных какими-то пригорюнившимися черными птицами, одинокие люди, бездумно глазеющие на пролетающий мимо поезд, желтые флажки у будок — все это внезапно исчезло. Перед глазами, закрыв все другое, явственно, с поразительной отчетливостью выплыл откуда-то строгий, иконописный, словно бы уж окаменевших”! в непреходящей скорби, лик Аграфены Ивановны, жившей до его приезда пускай хрупкою, иллюзорною, но все-таки надеждой, единственно способной, несмотря на свою призрачность, удерживать человека на земле. Лишив ее этой надежды, что ты оставил ей взамен, гвардии капитан Сергей Ветлугин? Черную, бездонную пустоту? Или вот эту мертвую окаменелость?
Тихо застонав, он отошел от окна, откинул дверцу купе и с ходу упал вниз лицом на нижнюю свою полку. Кто-то сверху обронил порицающе:
— Хоро-о-ош!.. А еще командир! Орденов, медалей-то сколько!..
Он слышал это, но занят был слишком важным для себя, чтобы одернуть незнакомого спутника за его несправедливое и обидное замечание. Он лежал, уткнувшись носом в подушку, а видел тот майский день в маленьком чехословацком селении по имени Косова гора, видел ликующие толпы людей, кричавших в безумно радостном упоении «наздар», размахивавших трехцветными флажками и бросавших под ноги солдатам, под их запыленные разбитые сапожищи и ботинки охапки живых, обсыпанных еще каплями росы цветов; увидал опять и того нарядного, будто специально приодетого для такого великого праздника, петуха, который взлетел тогда на забор и на весь белый свет протрубил свою песнь в честь победы и во славу освободителей. И день тот представлялся ему тогда лишь самым первым в бесконечном ряду дней грядущих, таких же, а может быть, еще более солнечных и праздничных, — мог ли он, победитель, осыпаемый цветами, погруженный в святую купель безмерно счастливых слез людей, которым принес избавление, которые на его глазах приходят в неописуемый восторг только от того, что им удается коснуться кончиком пальца линялой гимнастерки русского воина или дотронуться до звездочки на его полевом погоне, — мог ли он в тех условиях увидеть сухие, выплаканные до последней капли глаза, скажем, тетеньки Анны, окаменевшее в вечной материнской скорби лицо Аграфены, поджатые в неподсудном своем эгоизме губы тетки Авдотьи? Мог ли в тот ослепительный день подумать о жестокой сцене, разыгравшейся на его глазах прошлой ночью? А сколько их еще будет, таких-то сцен?
Ночная драма, свидетелем и участником которой был Сергей Ветлугин, имела свое продолжение, расходясь кругами и по временам принимая самые неожиданные, причудливые формы. Начать с того, что Авдей Белый прибежал к дому Угрюмовых, когда за Феней уже захлопнулась сенная дверь, а на крыльце вместо нее встала грозным и неумолимым стражем Аграфена Ивановна, которой не впервой заступать таким образом дорогу Фениному ухажеру. Столкнувшись с непреодолимым препятствием, Авдей остановился посреди двора, глупо заморгал, решительно не зная, куда себя деть. Так бы, наверное, и стоял истукан истуканом неизвестно сколько времени, если бы его не выручила сама же старая хозяйка. Она спросила:
— Чего ты, голубок, забыл на нашем дворе?
«Голубок» промолчал, ибо на такой вопрос не отвечают. Однако Аграфена Ивановна все-таки сделала свое дело — вывела парня из минутного оцепенения. Авдей попросил:
— Позови Феню на минуту. Мне поговорить с ней надо.
— Для этого добрые люди днем приходют. Иди, голубок, никто тебе ее не позовет. Ступай.
Сказано это было таким тоном, что надеяться Авдею на что-либо не приходилось. Повернувшись, он медленно пошел со двора, а за калиткой его догнала Феня. Набросив на плечи ватник и наскоро покрыв голову темной шалью, она вышла из избы, скользнула мимо матери, миновала двор и вот теперь, взяв Авдея под руку, повела в сторону леса. Заговорила лишь тогда, когда дорога скатилась под гору, пробежала мимо Апрелевой избы, по Поливановке, и втянула, укрыв от стороннего глазу, в плотный белесый омут тумана, спускавшегося перед рассветом на все пойменные места, на лес и лесные озера — в первую очередь:
— Зачем же ты со двора? Вот чудак! Разве ты не знаешь маму? Она и раныпе-то, почесть, не спала, а теперь и подавно. А я с проулка окно тебе открыла. Думала…
— Я знал, но ведь уже светало, бабы коров собирались выгонять.
— Ах да! Я и забыла, что уже утро. Но все равно пойдем: я хочу что-то сказать тебе. Так дальше нельзя, Авдей.
— Как? — встревожился он, остановившись и пытаясь заглянуть ей в лицо, прикрытое шалью.
— А вот так… Аль мы прокаженные с тобой, что от нас все отворачиваются?
— Опять ты за свое. Какие все? Старухи — это, по-твоему, все?
— Не только старухи… Ну ладно — не все. Пускай будет по-твоему. Но я больше не могу так. Либо ты оставайся с матерью и твоими сестрицами, либо… либо приходи ко мне совсем.
— А твоя мать? Как она поглядит на мой приход?
— А мы у Пелагеи Тверсковой покамест поживем. Я говорила с ней. Она согласна. А потом свое гнездо надо вить. У меня сын растет, у тяти своя семья.
Да и Павлуша — парень уже. Не успеешь оглянуться, как приведет в дом невесту. Ну как ты? — Теперь она остановилась и глянула на него ожидающе. Испуганно, с глубокой тревогой, в нетерпении переспросила: — Как?.. Что же ты молчишь?
— Я думаю, Феня. Но хорошо ли нам будет в чужом доме?
— Да временно же.!
— Все равно. Что скажут…
— Ах вон ты чего испугался! — Голос ее задрожал. — А по чужим погребицам да по амбарам укрываться лучше?.. У разных там тетенек и дяденек? Ну, коли боишься мирского суда, веди в свой дом! — выдохнула она с торжествующей яростью. — Веди, веди! Ты же хозяин, мужик. Вот и веди. Что, боишься? Матушки, сестриц своих испугался? А еще герой, от фашистов, говоришь, три раза убегал, а от глупых баб не можешь…
— Постой, постой, — заторопился Авдей, вот только теперь действительно испугавшись. — Надо же все обдумать как следует…
— Ну и обдумывай один, а для меня хватит! — Она резко оттолкнула его от себя и свернула на лесную тропинку, едва различимую в плотном занавесе тумана. Заслышав за собой шаги, зло выкрикнула: — Не ходи за мной! Иди, иди к своей матушке. Она давно невестенку тебе подыскала. Наденка Скворцова, бухгалтерша наша, уже постель приготовила. Ступай, и чтобы ноги твоей у меня больше не было. Слышишь?!
— Слышу! — отозвался он, тоже распаляясь. — Боль-по-то не расходись. Как-бы…
— Что «как бы»? — отозвалась она, вновь задержавшись. — Бросишь, что ли, меня? Эка испугал!
— Я не пугаю. Но только ты подумай…
— Я уж надумалась — голова кругом идет от этих дум. Подумай теперь ты.
Авдей не ответил. Феня постояла еще немного, ожидая, когда он заговорит, но Авдей молчал. Прикусив в обиде нижнюю губу и подрагивая тонкими крыльями ноздрей, она медленно пошла в глубь леса.
Утро было тихое, макушки деревьев помалкивали, не перешептывались даже пожелтевшей листвою; лишь осинник, в который привела ее тропа, лопотал что-то тихо по своей всегдашней болтливости. Треснули где-то не-
подалеку сухие ветви под ногами потревоженного лосиного семейства; взмахнула над самой Фениной головой своими бесшумными крылами сова, заканчивавшая ночной промысел; легкой тенью перечеркнул тропу зайчишка, вмиг сгинув в чащобе; с ближнего болота снялись дикие утки, огласили лес звонким и сочным кряканьем; вслед им раздался сдвоенный, дуплетный запоздалый выстрел.
Феня вздрогнула и, шарахнувшись в сторону, присела, прислонилась спиной к холодному и шершавому у комля стволу старой осины, затаилась.
Мимо, по тропе, огромная в рассеивающейся пелене тумана, проплыла фигура Архипа Архиповича Колымаги.
«Господи, только бы не увидел!» — Феня сжалась в дрожащий комок.
Лесник, однако, не заметил — проследовал в нужном ему направлении.
Феня вышла на тропу и медленно двинулась по ней, вовсе не думая, куда и зачем идет. Туман стал быстро редеть, можно было различать деревья и даже кустарник. Щеки Фенины уже не натыкались на хлесткие и обжи-гающе-гибкие лапки вяза, пакленика, карагача и густого в низинах черемушника.