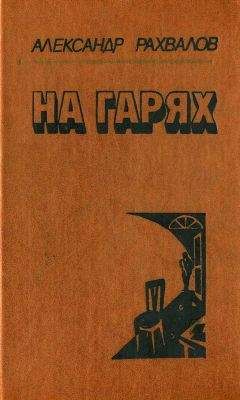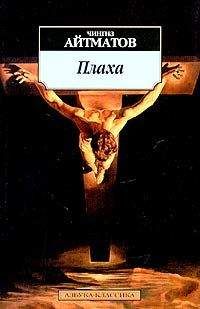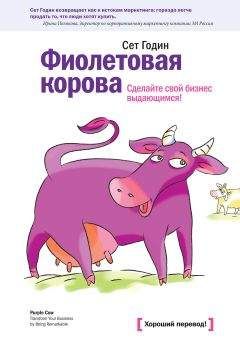— Никак себя не поймем. Звери поняли, что мы звери, и ушли из наших лесов; рыбы поняли, что мы хищники, и уплыли из наших рек… А мы все никак не поймем самих себя, копаемся в собственных кишках. Как так? Что есть жизнь? Мужики, вернувшиеся с войны, за пятнадцать лет едва коммунизм не построили. Чего-то не хватило…
— Почему не построили? Да потому что это не сарай…
— Спились мужики! Во дворах за их столиками играют в домино старухи. Старики вымерли от ран и надсады. Так ли? Старухи ведь тоже надсаживались, но живут… Старики вымерли от водки, пили, чтоб не смотреть на такую нашу жизнь. И причина, как ты говоришь, наших неурядиц заключается в том, что действуют такие приказы, как ваш, — приказы по управлению, а не по стране. Князьки! В прежнее бы время… Вот почему вы его не любите. Там не было князьков. Я помню: начальство советовалось с работягами, запросто принимало их в своих кабинетах… Ходоки — возможно ль теперь? Я к механику задрипанному не мог пробиться, а парторганизация — эта вообще на небесах обитает, не пробьешься к руководству. Она, конечно, с народом, но — в книгах. Нужна рука, одна сильная рука, а не косяк: русский человек не умеет коллективно управлять, ибо всяк мыслит по-своему. Это в крови. У коня нет врожденного чувства подвластности: жеребенка от прирученной кобылы все равно надо объезжать, иначе не покорить его, а у людей? Дите еще в пузе объезжено кровью рабыни… Где та единая рука? Ваш приказ?.. Быки перестоялые! Получили за много лет первый приказ и рады в лепешку разбиться. Объявили бы, предупредили людей… Или забыли, что народ — это власть? Его кровью она добыта не для того, чтобы в ней всякая сволочь купалась, как в молоке. Хватали нас из-за иностранцев. Значит, не из экономических причин? О, позорище! Я думал, об экономике хлопочете… Власть на местах во все века — суррогат; парторганизация, видимо, здесь ни при чем — при любой власти в провинциях царили произвол и тупость; читал ведь Салтыкова-Щедрина… Но теперь!.. Чем образованней человек, тем он глупей. Сидяче-бумажный образ труда оглупляет умных людей, что ли? И всегда мы ищем виноватых! Прежде Отца обвиняли, потом Хрущева, теперь — Леонида Доброго? Нет, не обвините его! Возможно, после смерти наброситесь на его труп и имя, а пока — будем читать книги… Народ! Да народ понять — не один литр водки выпить! Какая уж там соль. А уж наша-то земля проклятая… Не было на ней чести…
— А декабристы?..
— Вот именно. Дворяне гибли за простой народ, а мы унижаем друг друга… Что происходит?
«Человек живет без страха и уважения к власти. Для него ее нет. Дожили…»
— Народ — ядро, парторганизация — как кожура, что оберегает от всего это ядро. У нас же, в Юмени, все наоборот.
«Народ — река, власть — камни и пороги… Но реки сдвигают камни и меняют русла!..»
— Захирели… Мэр города едва на трибуну поднимается — горожане едва живут. Все взаимосвязано.
— Чтобы город всегда был бодрым и здоровым, надо нам быть всегда на подъеме. А старость? Жили-были, трудились и — состарились…
— Так уйди на заслуженный отдых! Тебе-то, старику, зачем власть?
— Всюду материальное начало… Там, наверху, человек — бог: он правит не только вещественным миром — деньги-то старику зачем?! — но и людьми. Это главное. Представь себе, перед тобой, дряхлым и обрюзгшим, преклоняется красота, сила, молодость… Да кто же откажется от этого! Вот почему человек рвется туда, наверх. Ты туда не рвешься, потому что не понимаешь, что жизнь одна, что раз живем… В пивной этого не понять. Потому и вечных принципов нет: всякая власть делает их только себе удобными; Длина принципов — длина жизни карьериста… Он состарился, умер, испоганив все, а ты — начинай заново и жить, и работать, и правду восстанавливать. Бесконечная работа.
— Не понимаю, но оценить могу!.. Кстати, раньше тебя узнал об «отбое».
«Прямо мафия! Все знают, живучи…»
— Вечная работа, говоришь. Может быть. Но я знаю и другое… Знаю, допустим, что Рим простоял двенадцать веков. Там людей — таких голодранцев, как я, — бесплатно кормили… Законы были железными, земля богатейшая… И тем не менее этот Рим тазиком накрылся. Что же будет с нашим строем? Почему у нас глядят вперед на длину только своей жизни?.. Если все идет на спад, значит, скоро нашему строю хана! Капитализм тоже думал, что навеки… Однако разрушили. Но если бы в завтрашний день мы верили так же, как некогда верили в бога, тогда бы можно было рассчитывать веков на пять-шесть. Черт с ним, с этим двенадцативековым Римом! Правда?
— Не согласен… Во все века господствует идеология сильных… При вере — «не убий, не укради» сильные сами убивали и крали на глазах народа. Народ голодал, а они — братья во Христе — обжирались…
— А теперь?
— Какая разница! Тьфу ты, спутал меня!..
— Я хотел сказать, что если подкапываться под социализм, как под религию, то мы не в пример хуже окажемся. Более того, мне кажется, что нашу мораль мы выколотили из Евангелия: те же, в сущности, принципы — не убий, не укради, не обидь… Так?
— Каков поп, таков приход…
— Все равно обидно… Всю неделю «Юменская правда» печатает материалы по поводу одной победы нашей… Очередная, так сказать, победа. Редактор пишет: «Ведомственные автобусы берут на остановках пассажиров-попутчиков. В какой еще стране вы можете увидеть такое! Да вас там, наоборот, вышвырнут…» За рубежом не бывал — что могу сказать? Ничего. Но за границей, говорят, работа — это все: и быт, и машина… Живи — не хочу, только б работа была. А у нас? На трассе платят хорошо, но нет быта. Там, где есть быт, нету заработка. Как бы это объединить!.. Я вот работаю… Зачем такая работа, если она толком не кормит и не приносит счастья! Вот о чем надо писать «Юменской правде»… Еще обидней за наших детей…
— Детей не впутывай…
— Нет, ты послушай! Чтобы узнать, как живут богатые, Тамаркины дети пришли к «Дворянскому гнезду» и стали рыться в мусоропроводе. По отходам — пищевым и вещевым — они вычислили, как те живут, и впервые, может быть, раскрыли для себя смысл поговорки: гусь свинье не товарищ!.. А ты говоришь: детей не впутывай. Да они умнее нас и чутче. Ты-то бы сроду не узнал, как живет мэр города… Ты-то охранял их, пыль стирал полой шинели… Ублюдок!
— Ах ты, сволочь! Благородный!.. Один такой благородный да жалостливый позавчера изрезал в общежитии речников пять человек и сам же перевязал простынью, и милицейский наряд вызвал по телефону. Благородные!.. Не будь нас, вы бы давно перерезали друг друга…
— Заткнись ты, мусор!
— Не затыкай мне рта! Таких, как ты, надо сильным ядом выводить. Как глистов. На вас ведь ни мораль, ни добрые слова не действуют…
— А тебя надо образумить… Как в США, подсунуть гранату под крылечко — взлетишь и шмякнешься о стенку, тогда, может быть, поумнеешь.
— Гад! Подонок!..
Они сцепились…
«Если мы так распустились, значит, не можем существовать без твердой руки. Как при Петре, как при Отце… Люди, опомнитесь, пока опять не пришли к старому… Трудитесь, живите по доброй воле…»
— Скоро грянут репрессии! — орал Юрий Иванович, выйдя на середину зала. — Закон скрутит нас и бросит в трудовые лагеря, только теперь там не будет ни сочувствия, ни души… Молитесь на сталинские репрессии! Те в сравнении с этими — благо!..
— Юрок, Юрок! — успокаивали его мужики. — Тебя мент обидел? Да, Юрок?
— Завтра же идемте к Дому Советов. Идемте, пока не поздно… Падем на четыре мосла и скажем: «Мы будем жить, мы будет работать!» Нет, лучше к обкому… Слышите, братья?!
— Юрок, Юрок! — толпились мужики. — Мента мы сейчас ухлопаем… Он тебя оскорбил, да? Ах ты, ах ты, шушера!.. Грохаем его!..
Мужики было шагнули к Ожегову, но буфетчица опередила их.
— Выметайтесь! — прокричала она, указывая на дверь. — Я буду закрываться. Оглохли, что ли!
В зале наступила тишина. Такая тишина наступила, что слышно было, как хрипел своей тощей грудью Юрий Иванович. Будто жучок скребется в спичечном коробке. Но никто не шагнул к двери, точно не могут понять буфетчицу, хотя соображают, морща лбы, соображают… Кажется, что пивная боится выйти на улицу — к живым.
Но вздрогнули — и поплелись к дверям.
— Идите с богом, — прошипела вослед уборщица. — Не заводите смуту… Грех.
Ожегов вышел последним, протянув измученной старухе полтинник. Та низко ему поклонилась.
…На улице было темно. Выходя со света, надо остановиться хотя бы на миг, чтобы привыкнуть к темноте, после чего она отступит…
«Аквариум», как огромный матовый плафон, высвечивал довольно-таки значительную площадку. Воздух здесь был особенно густым от нудящего комарья, в этом же воздухе — чертячьи рожи… Они скалились и хлопали тяжелыми ушами в пяти шагах от Ожегова.
В трико с отвисшей мотней — «мешок» свисал едва ли не до колен — и в тапочках Юрий Иванович оторвался от сотоварищей, стоявших полукругом. Среди них было много малолеток — эти всегда, выпив хоть каплю, начинают бесконечно сплевывать, будто дегтю глотнули.