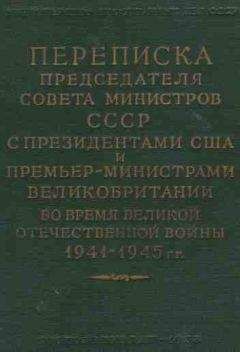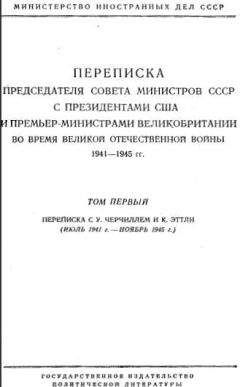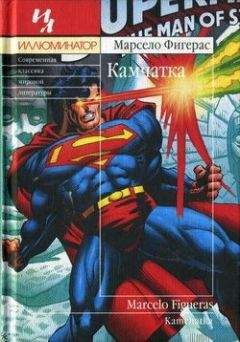Глинков был оскорблен до глубины души: он любил свой корабль, его экипаж, опасную службу подводника. А тут вышло так: когда на «Барсе» уже собрались отдавать швартовы, внезапно заболел минный машинист. Лежа на линолеуме внутренней палубы и обливаясь холодным потом, он корчился от нестерпимых болей в животе. Прибежавший с базы врач определил аппендицит и приказал Глинкову немедленно везти матроса в госпиталь для срочной операции. Когда, сдав больного, фельдшер вернулся на причал, он мог только посмотреть вслед четырем узеньким полоскам, почти слившимся с таким же серовато-оливковым морем. Подводные лодки ушли. Его, конечно, ждать не стали.
Через неделю три из них вернулись, «Барс» пропал без вести. Исчезновение его наделало много шума. Ходили слухи, что он по ошибке потоплен своим эскадренным миноносцем.[61] Глинкова перевели на службу в госпиталь. Через два месяца его разыскала Эльза и сказала, что пошутила. Теперь она согласна стать его женой. Но Глин-ков за два месяца среди людских страданий успел даже забыть её. Он отвечал, что тоже пошутил, когда делал предложение. Они все-таки пошли в кино, смотрели Веру Холодную и при прощании поцеловались. Но это была их последняя встреча.
Размениваться на мелкие романы Глинков не хотел. Он был слишком требователен по тому времени. В женщине он видел прежде всего человека, и в большинстве случаев этот человек его не привлекал. Никто из случайных подруг не интересовал его, да и их глупые вопросы: «Кто этот симпатичный фельдшер? Он женат? Он хорошо зарабатывает?» — казались ему пошлыми и отбивали всякую охоту к знакомству.
Глинкову становилось скучно и грустно. А потом пришло другое. Революция поставила перед каждым вопрос: по какую сторону баррикад его место? И Глинков стал убежденным ленинцем, как тогда называли большевиков…
И вот во Владивостоке, когда он попал в беду, был изуродован, когда ему угрожали пытки и безвестная смерть, он встретил девушку…
«Сейчас я увижу её», — думал Глинков, отправившись на авеню Жоффр пешком. Ехать он не мог: после такого известия его сангвиническая натура требовала движения.
109— Ну вот, Павел Фадеевич, теперь я к вам приставил человека, который имеет право обсуждать все ваши поступки, даже самые мелкие! — смеясь, слазал командир, поздравляя Глинкова с только что оформленным браком.
В кают-компании «Адмирала Завойко» было шумно. Церемония «записи акта гражданского состояния» закончилась. Накрывали стол для свадебного обеда.
Глинков был великолепен в отлично сшитой тужурке, над лацканами которой возвышался белоснежный воротничок с галстуком бабочкой. Справа от него сидела всё ещё смущенная Аня в простеньком ситцевом платьице. Нежное юное личико, на щеках очаровательные ямочки, большие выразительные глаза, в которых сияли счастье, доброта и искренность. Она была прекрасна, и штурман с завистью подумал: «Повезло Павлу Фадеевичу!»
Обед прошел шумно и весело, под поздравления, пожелания счастья, многочисленного потомства. Желали дожить в полном согласии до старости, увидеть внуков. Два раза кричали традиционное «горько». Больше не разрешил строгий глаз командира, заметившего, что это неприятно новобрачным.
Сидя за столом, где только что были разложены документы и звучали слова о праве командира корабля в заграничном плавании производить «запись актов гражданского состояния», Аня вспомнила, как её спрашивали, добровольно ли она вступает в брак. Всё это было как во сне. Как записали о их браке в большую книгу — вахтенный журнал, как вручили им скрепленные печатями выписки из этого журнала… Всё это какое-то необычное, совсем не так, как она себе представляла. И слова какие-то новые, пожалуй даже казенные, с канцелярским привкусом. Это её-то любовь — «гражданское состояние»? Даже смешно… Впереди жизнь с любимым человеком. Её муж — равноправный человек семьи революционных моряков. Командир такой чуткий, деликатный, добрый. Его жена замечательная женщина, так радушно её приютила. Других она ещё не успела узнать, но все смотрят на неё доброжелательно, приветливо.
К концу обеда с берега вернулся старший офицер. Как и для всех, кроме Клюсса, комиссара и Глинковых, бракосочетание было для него сюрпризом. Но его расторопная супруга все-таки кое-что разузнала, и Нифонтов счел себя обязанным явиться на корабль с большим букетом роз. Из-за этого букета он и опоздал к обеду.
Нифонтов был несколько обижен, что при организации такого необычного для кают-компании торжества обошлись без него и даже, хотя бы из приличия, его не подождали. Ведь он всё-таки старший офицер! Но, увидев веселые, смеющиеся лица, он забыл об обиде. Церемонно поздравив Глинковых, он с глубоким поклоном вручил покрасневшей Ане букет и галантно поцеловал ей руку. Но смущение скоро прошло: старший офицер был весел и остроумен.
Когда все разъехались и вестовые убрали со стола, Нифонтов уселся в кресло приканчивать со штурманом недопитую марсалу, настоящую марсалу тридцатилетнего возраста. И где это ресторатор ухитрился достать такое вино? Чокнувшись за будущую жену штурмана, он счал расспрашивать, откуда и как попала в кают-компанию новая «морская дама», кто её родители?
Беседу прервал старший механик, попросивший разрешения съехать на берег. В длинном черном пальто и черной шляпе он был похож на лютеранского пастора. Три рюмки марсалы уже успели подействовать, и Нифонтов спросил:
— Желаете навестить новобрачных в их гнездышке, Петр Лукич? Меня, к сожалению, этого удовольствия лишает Морской устав.
— Да где уж мне, Николай Петрович? Я человек старого закала. Такие свадьбы не по мне. Я по своим делам.
Штурман не упустил случая возразить старшему механику, которого недолюбливал за узость мысли и ретроградство:
— Чем же вам не нравится эта свадьба, Петр Лукич?
— Какая ж это свадьба? Венчание — таинство. А тут канцелярия. Как в участке у паспортиста.
Нифонтов встрепенулся: это уж слишком!
— Так где же в Шанхае венчаться, Петр Лукич?
— Как где? В церкви, конечно.
Нифонтов вспомнил: действительно, здесь есть русская церковь. Где-то там, за Северным вокзалом, на задворках. Он там даже раз был. А штурман не унимался:
— Это ведь церковь, Петр Лукич. Как же туда коммунисту Глинкову, который в бога не верит? Да ещё с невестой-комсомолкой! Их церковный брак не устроит. Вот и мой отец, например, был атеистом.
— А вас всё-таки крестил! — отпарировал старший механик.
Нифонтов ехидно улыбнулся:
— Здорово он вас отбрил, Михаил Иванович!
Штурман быстро нашелся:
— Меня крестили, когда мне было двенадцать лет. Не по желанию родителей, а в силу необходимости. Для поступления в гимназию требовалось метрическое свидетельство, а без «таинства» его не выдавали.
— Вот видите, Николай Петрович, — торжествовал старший механик, — крестили их все-таки. Оттого и пуля их не нашла, и море не поглотило. Мамаша ихняя молилась за раба божия Михаила, и услышал молитву господь всемогущий. А за такое святотатство, как сегодня, он всё равно накажет.
— Кого же накажет? Невесту?
— Всех, Николай Петрович. И Александра Ивановича, и фершала, и свидетелев…
— И нас, Петр Лукич? — не унимался Нифонтов, наполняя рюмки. Выпив и крякнув, старший механик покачал головой:
— А вас со штурманом за что ж? Вы к этому греху без причастности… Так вот я полагаю. А на церковь здешнюю вы зря. Она политикой не занимается, благолепие соблюдает… Так разрешите мне, Николай Петрович?
— В церковь, Петр Лукич?
Старший механик надел шляпу.
— В церковь.
Нифонтов мгновенно стал серьезным и поднялся с кресла.
— Не смею задерживать. Помолитесь и за наши души, Петр Лукич.
— Забавный старик, — протянул старший офицер, допивая рюмку.
— Не забавный, а вредный, — откликнулся штурман, — все каркает.
— Это уж вы напрасно. Дело своё он знает и служит исправно. А что ходит в церковь… Я сам, знаете, не отвергаю… самое… веру моих отцов.
Штурман промолчал. Он думал о злом боге, живущем в воображении стариков. Боге, готовом за всё наказывать. О том, что сегодня командир русского военного корабля впервые в истории скрепил брачный союз.
110Смена муссонов, как всегда, сопровождалась частыми переменами погоды. Ветер дул то с Амурского, то с Уссурийского залива. Чередуясь, на Владивосток летели волны то холодного, то теплого воздуха. Золотая осень вступила в свои права. Листва на склонах сопок принимала все оттенки зеленого, желтого, красного и бордового цветов, небо сияло безоблачной бирюзой. Всё чаще срывались с гор свирепые шквалы, поднимая тучи пыли и листьев.
По городу носились слухи о прорыве неприступных Спасских укреплений. Никто не знал толком положения на фронте, но над обещанием «воеводы» лечь костьми, но не допустить красных во Владивосток открыто смеялись.