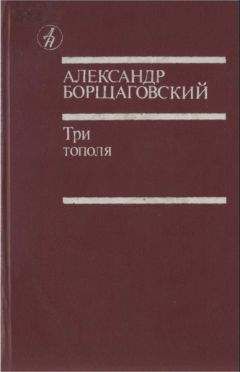— Вот и беда, что двое! — вырвалось у нее. — Теперь и в деревне мода пошла: мол, прежде для себя поживем, а потом в кабалу к детям. Родят позднего, одного, он и ездит на них, удила им вставляет. Смолоду какая кабала? Молодым все весело, хоть сколько ребят при тебе. — Она чувствовала, что сердит Алексея, но остановиться не могла: — Ты бы на Оку вернулся, чем же тут не жизнь? Новую школу построили, в одну смену — всем места хватает… Дети родились бы, у нас воздух такой: иная и повременила бы, а не приходится…
— То-то ты детей нарожала! — перебил он ее грубо, жестоко и не каялся: ведь и Цыганка больно задела его глупым, неосторожным разговором.
Вот уже три года, как они с Катей не берегутся, а детей нет: об этом никогда ни слова, но всякая их близость живет надеждой, и в самом молчании, в его напряженности, в хрупкой настороженности — опаска, боязнь спугнуть что-то неведомое, не дающееся им, то, что к другим приходит само собой, делает их счастливыми, равняет с остальным человечеством. Что-то уже черствеет в них, и время протяженностью, несбывшимся отбирает частицу веры в себя; Катя молча казнится, винит себя, свое слишком долгое, изнурившее ее девичество. Откуда ей знать, что в их сиротстве он винит себя, что беззлобные, оброненные после похорон матери слова Саши Вязовкиной не идут из его памяти, давят и давят, будто время наливает их свинцом: «Что ж ты так, со мной три ночи был — и мимо? Понесла бы от тебя, может, и поженились бы — куда деваться!» И почему те три ночи, давние, как детство, не перегорят до корня, не протекут меж пальцев горстью сухого песка, так, чтобы отряхнуть ладонь и перестать об этом думать…
— Мне никак не родить было. Мальчика скинула в самую беду, ты ему погодком был бы. А больше не нашлось мне компаньона. Маруся гнала женихов, к ней сватались, а я одна. Охотников не объявилось на красу мою ненаглядную… — В заметавшихся зрачках, в ненужных движениях отяжелевших рук, в том, как она уронила под ноги и вполовину недокуренную папиросу, открылась растерянность, жалкая суетливость, и надо было как-то защититься от этого. — Кому охота с курящей ведьмой под венец! Я ведьма была, у меня тогда целый свет в виноватых ходил, кто живой, на том и вина.
Мыслью Капустин обнимал прошлое Екатерины Евстафьевны, но сердце в эту минуту не откликалось ей жалостью: все так невозвратимо далеко, беды упали на нее еще до его рождения. Однажды он примчался домой из Рязани счастливый, что зачислен в педагогический, и застал в избе тетю Катю: чужую, настороженную, будто она еще и не решила, где ей жить, на Оке или в другой ее родине, сожженной южным солнцем. Почти не присаживалась, спать укладывалась после всех, неслышно и ненадолго, часто в оцепенении стояла посреди избы или у порога в порыжелых сапогах и ватнике не по сезону, курила, к чему-то прислушивалась. Пока не увидал тетки, жалости к ней было больше, — он не понимал, что жалел не ее, а мать, ее слезы, ее тоску по сестре. А вернулась — и слезам конец, и жалость сама собой миновала: прошлое далеко, книжно, а собственное его осязание молчало. Цыганку он получил готовую, и была она такой, какой была: басовитой, мужеподобной, с чертами аскетизма, с чередованием непримиримости и внезапного истового сердоболия, жизнь ее была уже прожита, пусть не вся, но прожита, время ли печалиться в голос о неродившихся детях?
— Поживем у тебя дачниками, мы свою жизнь менять не станем, — сухо сказал Капустин. — Ты в доме хозяйка, хоть всех старух собери, я не против.
Жесткость, колючая обида на тетку, тронувшую больное, уходили, голос Алексея смягчился, но Цыганка не захотела вернуться к прежнему разговору.
— Заругаешь ты меня за одно дело: я твой шпиннинг отдала. Самоделку твою.
— Он фабричный. Обломился, я можжевеловый конец поставил.
— Мите Похлебаеву половить дала. Знает мальчик, что я его у сарая караулю, а все равно туда норовит. Я было в избу убрала шпиннинг… — каялась Цыганка.
— Мальчик! Скоро школу кончит. — Новость раздосадовала Алексея: спиннинг был добычливый, привычный.
— Ты про Серегу Похлебаева, он старший, сети стал вязать. А там другой подрос, Димитрий, — объясняла она, не умея скрыть тайной расположенности к мальчику. — Осенью ему в третий класс. Заболел он твоим шпиннингом. Отцу пожаловаться — искалечит. Я и позвала Митю, пусть пользуется, пока хозяина нет. — Серые глаза Капустина не оттаивали, не уступали ей, и она закончила неуверенно: — Сбегаю я, отниму…
— Не к спеху, — придержал он ее за метнувшиеся руки, готовые, кажется, схватить упущенный спиннинг. — Как же он с ним управляется?
— Говорят, ловко. Они ростом малые, Похлебаевы, а за что ни возьмутся — сделают. Митя и нам гостинцы носит: мимо идет, постучится, сбросит с кукана рыбу побольше. Другой бы избу нашу забыл, воровское свое ристалище, а этот помнит.
— Я на спиннинг рассчитывал. — Алексей почувствовал жалкую, неловкую ревность к мальцу, который заместил его в сердце Цыганки и в простоте душевной бродит с его добычливой снастью и берет, берет рыбу. — У меня еще одноручный есть, его так далеко не забросишь, а у берега рыба помельче…
— Что ж ты, Алеша, на Оку не посмотришь? — затревожилась Цыганка. — И на горку не вышел, лугов не оглядел, а? Кончилась запретка! — воскликнула Цыганка с громогласной радостью, хотя и не сошла с весны к реке, не ступила на свободный настил плотины. — Ты не помнишь, когда запретки еще и в помине не было, а лишнего по плотине не шастали. За ней луг, травы, золото наше, за любую потраву, хоть и пешую, мир деревенский на тебя поднимется. К озерцу на пойме никто не подойдет, хоть бы там карась из воды прыгал, звал тебя… Теперь выйдешь на горку, поглядишь, как луга перехлестнули, под каждое колесо новая дорога ложится — сердцу больно.
— А главный караульщик куда подался? Рысцов?
— Пекарем у нас, ты его хлебом завтракал. Как он тебе, после городского?
Нёбом, гортанью, напрягшимися губами Капустин припоминал вкус съеденного хлеба: с холодным, со снега, молоком хлеб показался домашним, душистым, прихваченным понизу золой.
— До него страсть как пекли, будто и не для людей: куры нашего хлеба не клевали. Рысцов семьей на пекарне, там и дочка, и Дуся, жена, помогают.
— Она, верно, и печет! — Выход найден: уже Рысцов словно и не причастен к хорошему хлебу. — А Прошка дрова рубит.
— Дуся в отпуске, в Феодосии, у старшей своей, а хлеб нисколько не хуже. Рысцов — работник, он и шерсть сегодня по дешевке скупает, сам чужую овцу пострижет, если надо, а зимой катать будет.
— Катать? — не сразу понял Капустин.
— Катанки мастерить. Ну, валенки.
Сердце Капустина не мирилось с новым, благостным образом Рысцова.
— Хоть рыбе его бандитской конец пришел!
— С рыбой он, как никто, с рыбой! — живо возразила Цыганка. — Дуся продает, а чего на пароходе не возьмут, по избам носит. Рука у него легкая, кто ночь на реке бьется — и пустой, а Прошке только времени надо, что уронить в воду сеть и вынуть.
Она повторяла чужое, ей не доводилось видеть Рысцова ни у хлебной печи, ни на темной Оке, слышать, как капроновая сеть с тихим, вкрадчивым плеском уходит под воду.
— Так и остался вором! — воскликнул Алексей. — А люди привыкли: с сильным не судись.
— Сегодня только безрукий сети не вяжет. Парашютную нитку достают, а ее в магазине не купишь, с воровства, значит, все и ведется. Здешний егерь пенсию оформляет, говорят, Рысцова на его место зовут. Он уж и собаку завел.
— Ты ведь грехов никому не прощала, как же ты!
Цыганка устремила на него внимательный взгляд; не щурилась, не в щелку смуглых век смотрела на него, а открытым и усталым взглядом карих глаз, с дымчатыми, словно тоже прокуренными, белками.
— Устала я судить, Алеша, — сказала она, видя, что племянник ждет. — Маруся до последнего часа не устала, а я устала. Я вон сколько бездельно живу: на все у меня время было. Пока Федора дожидалась, я и законы выучила. Закон строг, да он только в суде хорош… — Капустин ждал, в ее словах все еще не было ответа. — Подобрела я к людям. Хорошо ли, плохо ли, не знаю, а подобрела.
— Значит, пусть воруют, пусть дерут с живого и мертвого?
— Все это — грех, — твердо сказала Цыганка. — Против людей и против жизни грех. Только от скорого суда, может, больше горя случилось, чем от краденого на сетку капрона. Злобиться плохо, вот что я поняла. Неужто мне надо было в глотку вцепляться Паше Лебедевой за ту печатку проклятую? Она своей печатки боялась больше, чем мы с Федором. Мы в поезде к счастью ехали через всю Россию, через Сибирь, а ее в родной избе трясло. Я скорого суда боюсь, вот моя слабость.
Стукнула калитка за кустами отцветшей, с зелеными гроздьями семян сирени, послышался высокий голос:
— Теть Катя! Есть ты тут? — Мальчик приметил ее халат меж деревьев. — Я на окошко залез, а там не ты спишь…