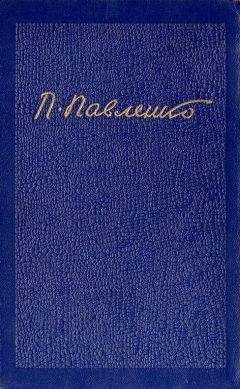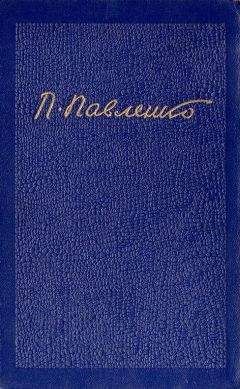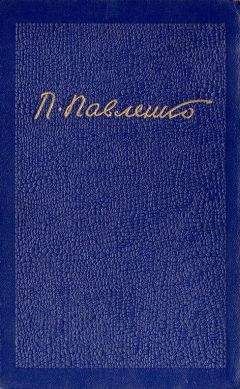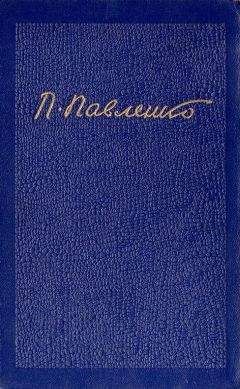«И ранило-то, можно сказать, дуром, — думал Тимофеев. — Не такие бои проходил и цел оставался, а тут, пожалуйста, сидел в блиндаже, как тот чур в горах, и попался».
В тоске по родному полку, в раздражении на свое одиночество, почти сиротство — а легко ли чувствовать себя бобылем на четвертом десятке лет! — Тимофеев опускал обстоятельства своего ранения. Он не вспоминал, что в блиндаже, за пулеметом, он остался один из всего расчета, выбитого немецкими снайперами в самом начале боя, и что уходить из своего блиндажа ему так же вот не хотелось, как теперь — из полка. «Буду я еще шляться по чужим гнездам, — говорил он себе тогда. — Новости какие!» Но сейчас он искренно забыл об этом.
В госпитале со знаменитыми докторами он вел себя по-прежнему нелюдимо и скоро стал считаться самым неприятным и грубым больным. Поправлялся, однако, он быстро. Начав ходить, чаще всего навещал палату выздоравливающих, где всегда велись шумные разговоры о полках и знаменитых командирах и обсуждались вопросы, к кому бы лучше всего попасть после выписки.
Тимофеев редко вспоминал свой полк. «Народ, небось, весь переменился. Не дай бог туда и попасть, пропадешь с этим пополнением». Нужно же было так случиться, что из госпиталя Тимофеев получил направление в свою армию, из нее в свою бригаду, а из бригады в родной полк.
Стояли последние дни апреля, когда Тимофеев вернулся на фронт. Весна в этом году запоздала. Погода была ветреной, дождливой, солнце почти не грело, но коричневые плоскогорья уже сплошь зазеленели, и красные, розовые и желтые тюльпаны густо пестрели среди молодой травы. Тимофеев возвращался в полк с пополнением в шестьдесят два человека, но он один был среди них коренным бойцом своего полка, а остальные попадали в чужую часть и наперебой расспрашивали Тимофеева, каковы порядки и командиры и крепкий ли вообще полк. С тех пор как Тимофеев эвакуировался, прошло два месяца, — а на войне время это немалое, — и он понимал, что могло измениться многое.
— Кто же его теперь знает! — говорил он, осторожно выбирая слова. — Выхваляешь одно, а представляется, другое. Вообще полк был ничего, жили, воевали, ребята дружные. Да кто же их знает, куда кого вынесло.
Вышли из города на заре. С моря дул студеный ветер, налетал мелкий дождь. Но чем дальше в степь, тем погода становилась ровнее, суше и солнечнее. Начинались места, пройденные Тимофеевым с боем, где был дорог каждый камень и каждый взгорок, как кусочки собственного тела. Сам того не желая, он рассказал о декабрьском десанте, о моряках, шедших в атаку в черных бушлатах, свистя, мяукая, гикая, о том, как гнал немцев по этим дорогам родной полк Тимофеева. В воздухе, то разгораясь над самыми головами шедшего пополнения, то уходя за горизонт, шло непрерывное сражение. Безжалостно бомбили немцы мирные поля и деревни. Молодые бойцы видели трупы растерзанных ребятишек, раненых женщин и стариков. Это была первая кровь, пролившаяся на их глазах, и Тимофеев сразу же взял молодых в руки, велел рассредоточиться, учил, как прятаться от авиабомб.
— Главное, голову береги. Голову потеряешь, навек калекой останешься, — весело покрикивал он на молодых.
Второго мая, часам к восемнадцати, пополнение подошло к расположению полка. На пологих краях широкой лощины, приподнятых вверх, как края блюда, в блиндажах, окопчиках и землянках возился народ. Полк стоял километрах в восьми от переднего края, пополнялся и отдыхал. Казалось, на скатах лощины сразу со всех концов начинает строиться новый рудник. Всюду копали; загоревшие лица, покрасневшие на солнце голые плечи бойцов одни были видны с дороги.
За лощиной гудело от сплошного разрыва снарядов. В небе, средь частых облаков, все время раздавались ворчливые очереди крупнокалиберных пулеметов и низкий, спадающий и вновь выравнивающийся, сиреноподобный рокот самолетов на крутых виражах.
Незнакомый часовой остановил прибывших, велел им лечь на траву и вызвал дежурного.
— Давно в полку? — спросил часового Тимофеев.
— Девятый день, — ответил тот.
Дежурный — тоже совершенно незнакомый, младший лейтенант — довольно приветливо поздоровался с прибывшими, однако не выразил никакой радости, узнав, что среди них — пулеметчик, участвовавший в десанте и дважды раненный в последующих боях. Он только сказал: «Вот как!»
Тимофеев снова впал в раздражение и уныние. Ему было стыдно перед новичками, что он совершенно неизвестная здесь личность, будто и вовсе без боевой биографии, без опыта. У него не было никаких преимуществ перед новичками. Он точно вернулся в деревню, которая выбросила его из своей памяти, как никогда не существовавшего.
Затем поговорить с прибывшими пришел комиссар полка, тоже новый. В руках у него была толстая тетрадь в коленкоровом переплете с обтрепанными краями. Он начал с того, что хотя сам он в полку недавно, но тем не менее хорошо знает полк по боевым делам и считает честью быть его комиссаром. Потом он показал всем тетрадь, что у него в руках.
— Это, товарищи, дневник погибшего комиссара, — сказал он. — Вся героическая история полка, все его лучшие люди занесены сюда. Вам надо стать достойными их. Вот, например, — и комиссар прочел эпизод, относящийся к дням десанта, в котором принимали участие многие товарищи Тимофеева. — Все вы должны попасть в эту тетрадь, — сказал комиссар. — Мне очень приятно, — добавил он, — что с вами пришел такой испытанный боец, как товарищ Тимофеев. Я прочел о нем три записи погибшего комиссара и сделал по ним политинформацию. Мы новые, но мы не забыли старых. Помним их, высоко держим их знамя, учимся на их опыте. Я думаю, что вам, товарищ Тимофеев, придется вернуться в свою первую роту. Что скажете?
Тимофеев встал, в горле у него запершило.
— Семечек налускался, — беззастенчиво соврал он, не зная, как совладать с голосом. — Мне бы, конечно, товарищ комиссар, к своему пулемету более всего подходит.
— А вот это не выйдет. Вот уж что не выйдет, то не выйдет, — сказал комиссар. — Вам, как опытному обстрелянному бойцу, командир роты хочет поручить отделение. Представим вас в младшие командиры, товарищ Тимофеев.
Тимофеев промолчал, потому что голоса все еще не было.
После беседы с комиссаром пообедали, разостлали шинели и прилегли отдохнуть. С темнотой предстояло разойтись по ротам. Тимофеев лег навзничь и долго глядел в небо, рокочущее пулеметными очередями. Настроение у него стало лучше, ровнее. Как стемнело, пришли делегаты связи от рот.
— В первой роте сегодня праздник, — сказал один из них. — Пулеметчик Тимофеев вернулся. Коечку ему застелили, цветы в бутылке «боржом», подарки под подушкой. Как невесте.
— Сейчас в первую роту делегаты трудящиеся пошли, — сказал второй.
— Значит, на митинг, — решил первый.
Новички, назначенные в другие роты, подошли к Тимофееву попрощаться, долго жали его руку и поздравляли. Ему было и хорошо и все же грустно. За весь день не встретил он ни одного знакомого лица. «Не узнаю я их, что ли?» — думал он. Вечер торопливо переходил в ночь, затихло небо, ослабел рокот орудий, над сумрачными полями заплясал неровный огонь ракет и, как кузнечики, вдали затрещали автоматы. Тимофеев совсем было заснул, а из первой роты все не приходили. Но вот пришли. Разбудили его только в середине ночи.
— Задержались маленько, — загадочно сказал представитель роты. — То да се. А место новое, мы тут всего второй день. Пока обслужишь себя, полдня уйдет.
Что он подразумевал под «обслуживанием себя» было неясно, но никто не переспрашивал.
Первая рота закопалась в землю на южном склоне холмов, окаймлявших долину. Глубокие блиндажи были оборудованы самодельными печками с трубами из стреляных немецких гильз, вправленных одна в другую.
«Молодые-молодые, сущие дети, а дело знают, — улыбнулся Тимофеев. — Хозяйственные ребята!»
В овражке за склоном чернел народ.
Пополнение в составе одиннадцати человек, во главе с дважды раненным пулеметчиком товарищем Тимофеевым, прибыло! — доложил представитель роты.
— Здравствуйте, товарищи! Отвечать вполголоса! — поздоровался командир.
Начался маленький митинг. В этот день был получен первомайский приказ товарища Сталина, и речь зашла о том, как быстрее и лучше выполнить каждому приказ своего любимого главнокомандующего. «Опыт Тимофеева», «пулемет Тимофеева» то и дело слышалось в речах. И хорошо, что совсем стемнело, а то бы не насморкался Тимофеев перед всем честным народом.
Звезды едва проглядывали сквозь грузную темноту неба. Тимофеев никого не узнавал, но десятки заскорузлых бойцовских рук с лаской пожимали его ладонь. Тимофеев почти не слышал того, что говорят. Волнение подавило его слух, его речь, его зрение. Он сидел, полный счастья.
Семья, где его помнили и любили, дом, где он — уважаемый человек, — были рядом. Он не был больше ни бобылем, ни безыменным странником. Теперь он знал, что необходим полку и что почет этот оказан ему от чистого сердца.