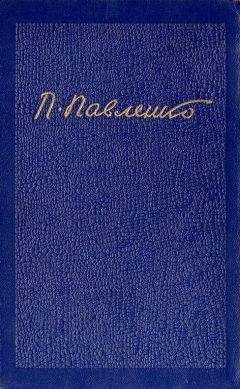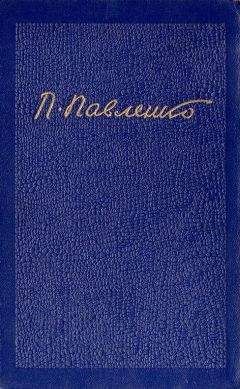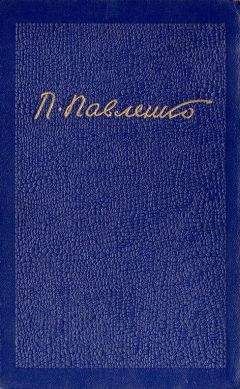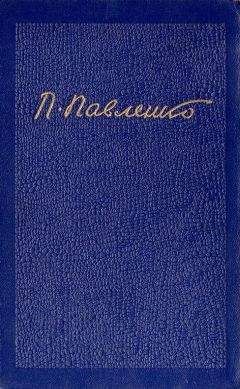Две девушки и парень — все трое в военных костюмах — ползком пробрались через открытый немцами луг, волоча за собой на веревках небольшие чемоданчики и футляр с баяном.
Концерт намечен был в противотанковом рву — слушатели располагались по скатам, дно рва служило сценою.
Спустившись в ров, девушки крикнули слушателям:
— Просим повернуться к нам спинами! Кру-у-гом! — и, вынув из чемоданчиков платья, туфли и чулки, молниеносно превратились из нескладных бойцов в красивых изящных женщин.
Когда программа была закончена, они опять попросили слушателей повернуться к ним спинами, переоделись в военное и под аплодисменты бойцов поволокли «на буксире» свои чемоданчики в соседнее подразделение.
Малафеев полз впереди. Самая опасная часть пути — луг — скоро была преодолена, и четверка благополучно достигла леса, где и присела передохнуть.
Начинало темнеть, и все, что казалось днем таким обычным и нормальным, приобретало в сумерках какую-то опасную недосказанность, затаенность. Плохая видимость и незнакомство с местностью угнетали артистов.
Все были без оружия, да, по совести говоря, и не умели владеть им. Они все время торопили Малафеева, боясь темноты в лесу.
— Против темноты одно средство хорошо — тишина, — успокаивал он их. — Не шумите, громко не разговаривайте, и мимо любой опасности мы, как туман, пройдем.
Надо же было случиться, что в тот самый момент, когда Малафеев вел артистов, немцы предприняли попытку вклиниться между нашими подразделениями, избрав для прорыва как раз тот самый лес, которым шла группа Малафеева. В полной темноте очутилась группа эта между своими и фрицами. Автоматы «куковали» где-то совсем рядом, лес наполнился шорохами, и все чаще врывались в дробный стук автоматов резкие взрывы ручных гранат, — очевидно, сражение завязывалось рукопашной схваткой.
Парень с баяном был худой, туберкулезный юноша, он скоро выбился из сил и едва переставлял ноги. Девушки тоже устали. Все трое не умели ходить по лесу и часто падали, ахая и тихонько плача.
Малафееву пришлось вести их по одному — проведет баяниста, посадит под дерево, бежит за актрисой, которая ждет его под защитой кустов, метрах в двухстах позади, присоединит ее к баянисту и возвращается за второй девушкой.
Так ему удобнее было перетаскивать волнами и чемоданы с вещами и баян. Но вскоре бригада вконец «обезножила», и Малафееву пришлось сделать долгий привал.
Сражение, разбросавшись мелкими очажками по всему лесу, незримо приближалось к их стоянке, окружая ее крутой дугой. Малафеев просто не знал, что предпринять.
Он находился сейчас в настроении, которое всегда приносило удачу, и всеми силами хотел благополучно довести артистов до безопасного места. Напряженно вслушиваясь в звуки ночного боя, мысленно представляя его направление, Малафеев все время прикидывал, куда держать курс его группе, и был молчалив, сосредоточен, неохотно отвечал на обращенные к нему вопросы. Артисты думали, что он волнуется.
— Товарищ Малафеев, а правда это, что вы были трусом? — с тревогой спросила его самая робкая из артисток, когда — в один из своих привалов — они все четверо сидели у широкой ели.
— Правда, — просто сказал Малафеев, словно о болезни, которая давно и бесследно прошла, — правда, это у меня было.
— А теперь?.. Или это совсем прошло?
— Как вам сказать, — серьезно ответил он, — думаю, что совсем. «Она», знаете, как берет человека? Как лихорадка. Потрясет и — отпустит, а если все меры принять, то быстро пройдет, а уж потом надо только следить за собой, чтоб не возвращалась.
— А сейчас?.. Сделайте, миленький, так, чтобы вы сегодня не трусили. Пожалуйста. Хорошо? Мне так страшно, я только на вас и надеюсь…
— Вот, вот, вот! — и в голосе Малафеева почувствовалась даже некая радость. — Это она и есть. Как у нас говорят: «Сам-то я не боюсь, да шкура дрожит».
— Да, да, вот именно… и что же тогда?
— А ничего. Пусть дрожит. Только б голова в порядке. Это, как у нас тоже говорят: «Если голову потеряешь, так навек калекой останешься».
Вся четверка лежала в глубокой яме из-под вырванного с корнем старого дерева, и, рассказывая, Малафеев время от времени выглядывал наружу, прислушивался, а один раз заставил артистов впечататься в землю и лежать, не дыша.
— Я человек от природы слабый, — начал он, немного погодя. — Дай запойному наперсток вина, он и бороду кверху. Так и я. Иду на операцию в компании, так я — по слабости — всегда себе вакансию труса выбираю. Где можно выбирать, там я всегда выбираю — назад. И стыдно, и в себя плюнуть готов, а иначе никак не могу. Был у меня случай с покойным Глебовым, когда повстречались нам пятеро фрицев. Оба мы сразу тогда сдрейфили, и я сразу был за то, чтоб тикать. Глебов тоже. Так двойной тягой и начали. Не скоро я понял, что я сильней Глебова, что мой страх поменьше его, и взялся командовать, а когда его убили, стал еще тверже, потому что положение не позволяло выбирать ничего, кроме выдержки.
И после того понял, что слабого надо ставить в условия, где нельзя податься назад.
— А если вы один, — спросила девушка, — тогда как?
— Тогда все сильное и все слабое во мне одном. И сильное всегда возьмет верх. Иначе ж гибель. Трус, ведь он тоже понимает, что трусость — гибель, да пока может прятаться за чужие спины — ему трудно решиться.
Так говорили они в перерывах между выстрелами, которые теперь раздавались уже со всех сторон.
— А сегодня, товарищ Малафеев, что вы думаете?
— Сегодня, надо полагать, мы вырвемся. Я ведь посильнее вас троих буду, мне прятаться не за кого, да и обстановочка, знаете…
— А я так ужасно трушу… А что обстановка?
— Трусить вы, товарищ, сейчас перестанете. Слушайте меня хорошо.
Малафеев склонился к трем головам, лежавшим в яме.
— Фрицы прорвались в лес, — сказал он, — и наши заманивают их поглубже. Между прочим, та рота, где вы выступали, судя по выстрелам, отрезает фрицев от своих. Как рассветет, им конец будет.
— А мы? Что же с нами? — спросили артисты.
— А мы, выходит, как пятак на кону, — усмехнувшись, сказал Малафеев, — посередке игры лежим. Посветлеет, пробьемся к своим. Только вот не знаю, как нашим знак подать… Обдумайте-ка, а то я сам не соображу.
— Конечно же, надо знак подать, конечно, — залепетала, задыхаясь, девушка, не умевшая пересилить робость. — Чего тут соображать? Слушайте меня. Я сразу сообразила. Мы певцы. Правда? И с нами баян. Вы понимаете?
— Нет еще. Только потише.
— Господи, чего ж тут выдумывать! Как только вы увидите, что наши близко, вы дадите нам знак, и мы запоем под баян и побежим к своим. Тут ничего и выдумывать не надо.
— А ну, замолкните на минутку, — шепнул Малафеев.
И в ту же секунду все четверо услышали усталое дыхание ползущего рядом человека. Он громко захлебывался от усталости, что-то шепча не по-нашему. Было слышно, как он цеплялся за кустарник и как потом бились одна о другую ветви, потревоженные его касанием. За человеком остался запах пота, противного, чужого.
Чуть дальше послышался тихий кашель. Потом кто-то негромко свистнул, и сразу раздалось несколько автоматных очередей. По звуку их Малафеев догадался, что это стреляют немцы.
Наши отвечали издалека. Положение было не легким.
Ночи на севере коротки, светать начинает вскоре после полуночи, и бой почти не замирал с темнотою.
Малафеев вслушивался в выстрелы и по едва уловимым оттенкам звуков или, быть может, по характеру длинных и коротких очередей, по всей манере огня пытался установить, где свои и где немцы.
Группа его, по-видимому, лежала на правом фланге наступающего немецкого подразделения, в тыл которому заходила рота, скажем, первая, где был концерт, а с фронта его сдержала другая рота, — допустим, вторая, куда как раз и направлялись артисты. Застряли они, очевидно, на половине пути, но ближе к неприятелю, чем к своим.
На участке первой роты перестрелка нервно оживала вместе с посветлением ночи, но сзади, где Малафеев предполагал движение второй роты, тишину тревожили только робкие одиночные выстрелы.
Он ждал, пока они не сольются в стрельбу. И когда разнесся, наконец, первый дружный залп, а следом за ним, как разбросанное по лесу со всех сторон нарастающее эхо, раздалось «ура», Малафеев поднялся на ноги. Свои были далеко, и пробиться к ним можно было, лишь ударив по немецкому флангу.
— Внимание! — сказал он торжественным топотом и поправил автомат на груди. — Песню и — за мной!.. Начали!
Все вскочили и, не видя ничего, кроме невысокой хилой спины Малафеева, бросились следом.
В одну секунду баянист перепробовал несколько разных мотивов. Все они показались ему, очевидно, неподходящими, и тогда громко, отчаянно громко и вызывающе, он грянул «Гей, цыгане…»