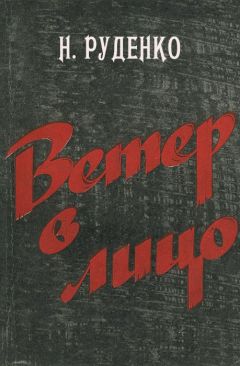Доронин был теперь о Сотнике значительно лучшего мнения, чем в начале знакомства. И хотя он не мог простить ему нечестного поведения в отношении Валентины, но неравнодушие Виктора в работе над интенсификатором пришлась парторгу по душе.
Горовой рассказал Макару Сидоровичу, как ночью его растолкал Сотник и начал излагать мысли по поводу изобретения. Он забыл про раненую ногу, сел на кровати, горячо жестикулировал.
— В ванну надо вводить, а не в огонь. Слышите, Гордей Карпович? Непосредственно в ванну печи, в расплавленный металл! Тогда интенсификатор будет значительно меньше влиять на своды, а эффект будет больше. Это же так ясно... Не знаю, почему нам сразу не пришло в голову?
— Кому?.. Мы давно это знаем. И опыты проводились, — скептически усмехнулся Горовой. — Но как быть с трубами для вдувания? Ведь температура вокруг них значительно выше, чем у остального металла. Если автоматизировать подачу труб вместо расплавленных, это не решит проблемы. Восемьдесят метров, на одну плавку — не какая-то мелочь... В копейку влетит. Пользы получим столько, как с черта смальца.
Но замечания Гордея Карповича не озадачили Сотника.
— Харьковский институт изобрел такие огнеупоры, что в солнечные недра можно кислород вдувать, и не расплавятся. К сожалению, они почему-то засекречены.
— Я слышал об этом. Какое безумие! — Возмущенно воскликнул Горовой. — Эта детская игра в тайны нам стоит миллионы.
Не успел Макар Сидорович допить стакана чая, как в дверь постучали. Катя вышла на веранду и вернулась с Солодом.
— Дома, дома... Заходите, Иван Николаевич, — приветливо улыбалась Катя, пропуская в дверь гостя. — Только что приехал.
Солод от чая отказался. Когда зашли с Дорониным в его домашний кабинет, Иван Николаевич сел напротив хозяина, завел разговор об общежитии, о рабочей столовой, о своем последнем выезде на рыбалку. Но Макар Сидорович чувствовал, что у Солода есть какой-то более важный разговор, только он не знает, с какого конца его начать. Наконец Иван Николаевич достал бумажник, вынул свернутый вчетверо пожелтевший листок, протянул Доронину.
— Характеристика. Военная... В ней, между прочим, сказано, что я спас знамя части. Я вам об этом рассказывал.
— Да-а, — протяжно сказал Макар Сидорович, рассматривая бумажку. — Дорогой документ. И видно, что побывал в переделках.
— Конечно. Под Могилевом Днепр форсировали. Затем над костром высушил. Всякое случалось...
Солод пристально следил за каждым движением Доронина. Держался Иван Николаевич скромно, но с достоинством.
— Я все эти годы думал только об одном — чтобы снова стать коммунистом. Не мыслю себя без партии. Но все как-то не решался... Казалось, еще мало сделал, чтобы искупить вину.
Макар Сидорович смотрел на Солода задумчивым взглядом, будто хотел прочитать в его словах то, чего он не договаривал. Вернул ему характеристику, положил руки на колени.
— Да, вы допустили серьезную ошибку, — сказал Доронин.
— Конечно... Но я не от страха закопал билет. Не потому, что дрожал за свою шкуру. Боялся, что меня могут схватить и партийный билет попадет в руки врага.
— Сколько же это прошло, как вас исключили?
— Десять. Хороший кусок жизни.
Доронин сидел и думал. Десять лет — это немало. За это время человек мог не только глубоко осознать ошибку, но и честной работой доказать свою преданность партии. Почти восемь лет Солод работает на заводе. Зарекомендовал себя неплохо. Проявляет политическую активность. Доронин однажды слушал его доклад на первомайском собрании рабочих прокатного цеха. Доклад был грамотным, умным и, можно сказать, талантливым. Не похожим на те писаные доклады, что читаются вяло, без энтузиазма, чтобы очередь отбыть. Ему нравилось в Солоде также то, что Иван Николаевич подходил к вопросу о своей партийности серьезно, без излишней поспешности.
И хотя ему показалось на мгновение, что в тоне Солода и сейчас было что-то неестественное, но он сразу же отогнал эту мысль. Нет, парторг не имеет права подвергать сомнению честность человека, исходя из какой-то подсознательной, неосмысленной антипатии.
— Ну, что ж, — сказал наконец Доронин. — Я дам рекомендацию. К кому вы еще обращались?
— Хочу обратиться к Валентине Георгиевне. И к Сахно.
Доронин сел за стол, достал из ящика лист бумаги, заломил край, который должен остаться чистым, и, аккуратно разгладив его широкой ладонью, начал писать.
Пароход шел вниз по Днепру. Сзади остались киевские горы, колокольни Печерской лавры. Вечерело. Синие сумерки наплывали на берега. На палубе девушки завели песню.
Стоїть гора високая,
А під горою гай...
Легко очерченные контуры лесов то подступали к самым берегам, то удалялись, подпирая синий купол вечернего неба. Берега неожиданно расступались, открывались спокойные плесы больших заливов, которые так густо заросли широкими кувшинками, что, казалось, по ним можно пройти от берега до берега, не касаясь босыми подошвами темной воды. А между кувшинками белели, освещенные луной, перламутровые головки лилий.
В пятидневной командировке Валентина была с Олегом, и теперь они возвращались из Киева домой на пароходе. Она надеялась, что поездка на пароходе успокоит ее крайне расшатанные нервы.
Но ей трудно было избавиться безрадостных мыслей. Они не покидали ее нигде.
Валентина не смогла бы объяснить, почему ее неприятно поразило то, что Сотник думал об интенсификаторе даже в больнице. И не только думал, — нашел правильный ввод его в мартеновскую печь. Ведь это оказалось главным!..
В Киеве ей удалось подробно поговорить с известным академиком. Ученый внимательно ее выслушал и согласился с предложением Виктора, о котором она рассказывала ему с ревнивой точностью. Но огнеупоры!.. Где их взять?..
В том, что Сотник оказался равнодушным к ней и удивительно внимательным к ее работе, было что-то оскорбительное, унизительное. Это как будто подчеркивало, что он относится к Валентине с благоразумной доброжелательностью, не больше.
Потом подумала: «Я обвиняю Виктора. А в чем он виноват? Он знал, что я вышла замуж, и поэтому не приехал. Значит, виновата во всем я, а не он. Откуда он знал? Когда узнал?.. Да разве в этом дело!»
Валентина склонилась на перила палубы. Веяло прохладным ветерком. Палубные фонари освещали ее стройную, почти девичью фигуру. Олег мечтательно смотрел на воду, что бушевала за кормой и, освещенная пароходными фонарями, переливалась красными, голубыми блестками. Вокруг, ближе к берегам и в ночном небе, усыпанном звездами, стояла такая синева, которую способен был изобразить на полотне только Куинджи.
— Мама! Посмотри, что это?.. — Воскликнул Олег, протянув руку за перила палубы.
Под берегом, на воде, на больших заякоренных лодках, стояли три деревянных домика, возле которых медленно вращались крылатые колеса, похожие на колеса мощного парохода, только значительно больше, массивнее. Каждая мельница стояла на трех лодках: на двух аккуратный домик с жерновами, а на третьем крепилась ось продолговатого деревянного колеса с широкими лопастями. Мельницы можно было буксировать вверх и вниз по течению, устанавливать где угодно, выбирая самую мощную быстрину. Когда на землю падала первая изморозь, их разбирали и перевозили в деревню, а по весне, как только Днепр после разлива входил в берега, снова ставили на воду...
Валентина не впервые ездила Днепром, не впервые их видела.
— Это мельницы, сынок.
— А-а, знаю!.. На них муку делают.
Валентина улыбнулась. К мельницам, облитый лунным сиянием, подскакал всадник, легко соскочил с коня, снял уздечку, а лошадь пустил в высокие луговые травы. Олег завистливо следил за каждым его движением. Как ему сейчас хотелось проскакать самому на таком же быстром коне!..
Долго они стояли на палубе, вслушиваясь в шум воды за кормой.
Олег вынес серый шерстяной плащ, подал матери.
— Еще простудишься, — серьезно сказал он, как будто разговаривал не с матерью, а со старшей сестрой.
Валентина прижала его к груди, положила руку на короткие, взъерошенные волосы. На палубе, под синим-синим небом, какое бывает только над морем и над украинскими степями, пели девушки. Они, видимо, не слишком вдумывались в слова песни, потому что рано им еще прощаться с молодостью. Но пели дружно, хорошими голосами:
А молодість не вернеться,
Не вернеться вона.
Девушки не думали о том, что к их песне прислушиваются не только на пароходе. Песня будила рыбаков, они выходили из палаток и шалашей, спускались к воде, черпали из Днепра пригоршнями, плескались себе на лицо, на грудь, на спины. А потом провожали глазами освещенный десятками окошек пароход, что вез по Днепру в тихой синеве августовской ночи девичьи песни.
Над самой водой у потухающего костра сидели Макар Сидорович и старый Сидор Доронин. Песок был теплый, как нагретая лежанка. Дедок дремал, положив под голову дорожную сумку. А Макар Сидорович сидел на широком пне, ковырялся сухой веточки в угасшем костре. Песня разбудила старика. Он поднял голову, прислушался.