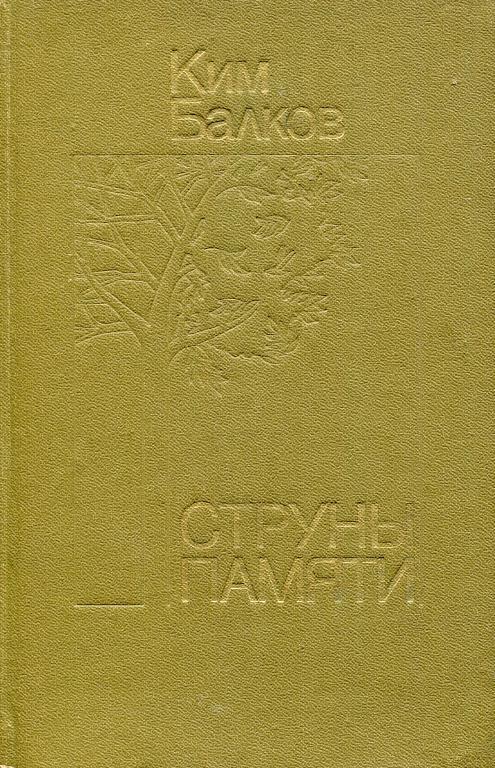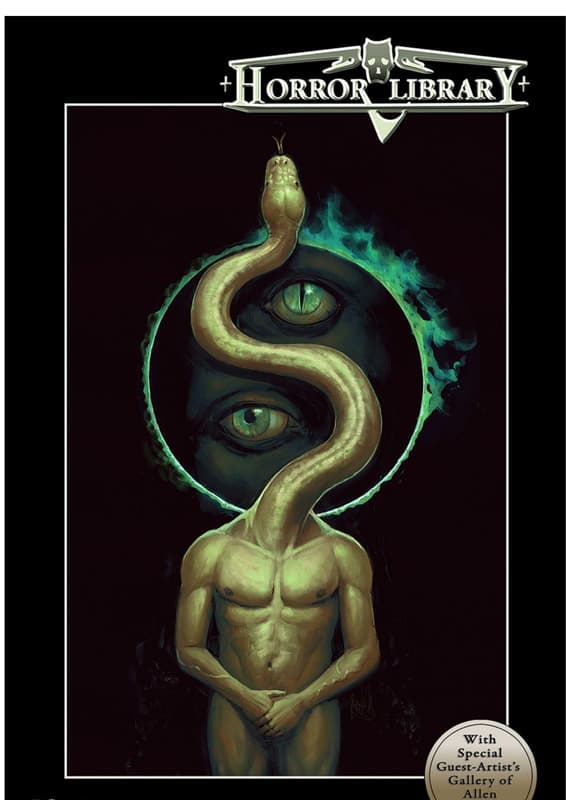ли?..» К ответил бы: «По делу. Без пути я не езжу…» Но на сердце другое, и не совладаешь с собою. Было однажды, вон там и было, на околице, подле колхозной конюший… Вдруг — настежь ворота, и кони оттуда, вороные да карие, гнедые да белью, разномастные, а он, пацаненок, подле тех ворот очутился и теперь ни с места, стоит, зажмурившись, и в голове испуганное: «Стопчут иль нет?..» Закричать бы, да так, чтоб услышал конюх, замахать бы руками: авось и не стопчут… Но нету сил рукой пошевелить, и ноги будто приросли к земле. И чувство такое, словно бы уж и не властен над собою, а если еще и стоит, зажмурившись, так потому и стоит, что кому-то это надо, кому-то большому и сильному, кто все о нем знает и как скажет, так и будет… Вот и теперь — давно уж не малец, а не совладает с собою… И хотел бы передохнуть, но ноги сами вынесли на околицу, и глянул вокруг Хохряков и увидел конюшню с теперь уже старой и слабой огорожей, и вздохнул: чего смотрят люди-то?.. Долго ль лошадям сломать огорожу, наддавят грудью и порушат… Подошел поближе, глянул в щель, которую отыскал не сразу… Когда-то часами толкался подле огорожи. И все следил за лошадьми, следил, и так-то хотелось вцепиться в косматую гриву и мчаться по степи. Но не довелось, как другим пацанам, испытать себя: отец говорил, не надо этого. Зачем?.. У тебя есть дела поважнее. Я вон и альбом купил… Не спорил с отцом, хотя и было обидно. Отходил от огорожи, понурясь, плелся за ним в деревню, осторожно ступая босыми ногами на горячую от долгого безводья землю. «А где же лошади?» — подумал Хохряков и оторвался от щели, но вот снова приник к огороже и увидел в дальнем загоне пару-другую лошадей: «Неужто это все, что осталось от колхозного табуна…»
— Ты чей будешь?.. — услышал у самого уха и отпрянул от огорожи. Старичок стоял подле него, нерослый, узкий в плечах, с худыми руками, стоял и смотрел на Хохрякова, и хитро щурились глаза, и темная хилая бородка подрагивала не то от ветра, который нес от деревни густую, вязкую по весне пыль, не то от вкрадчивого, едва удерживаемого в груди смеха. — Ты чей будешь?.. — снова спросил старичок. — Чтой-то не видел тебя тут… На здешний?
— Хохряков я.
— Хохряков?.. — переспросил старичок и задумался, и уж не щурились глаза его и было в них что-то от давнего казалось бы, навсегда позабытого, а вот теперь так неожиданно всплывшего в памяти. — Не счетовода ли Хохри сынок?.. — Хохряков кивнул, и старичок обрадовался: — Это ж надо… Это ж надо… Приехал, стало быть?.. А я гляжу, кто там такой большой да важный стоит подле огорожи?.. Уж не начальство ли, думаю? Нынче оно, знаешь, какое, до всего само хочет дойти, выискивает. Надысь, помню, было… — Старичок наморщил лоб, но потом энергично махнул рукой: — А и ладно!.. Скажи-ка, паря, об себе: вышел ли в знатные люди, чего хотел Хохря, иль как?.. Было время, дивно говорили мы с ним об этом, и спорили… — Вздохнул старичок, серьезными глазами посмотрел на Хохрякова, и тот вспомнил… Тихий, еще не остывший от зноя вечер, а на скамейке подле избы двое: отец и его давний приятель, сосед Егоруня. Был Егоруня не в пример отцу боек на язык, всегда в хлопотах, до всего ему есть дело: надо ль — не надо ли, он тут как тут, и говорит: «А я считаю, бригадир ошибается, и на сенокос нынче ехать рано — дождь зальет кошенину…» Первый на деревне спорщик, Егоруня-то, и, хоть ни разу еще по его не было, а все одно не отступит, и так приучил к этому людей, что, когда однажды приболел и поутру не пришел в колхозную контору и уж не слышно было его голоса, мужики растерялись: «Надо же! Собрались решенье примать, а Егоруньки нету, никто и не поспорит. Не-е, братцы, давайте обождем, когда Егорунька выздоровеет». Не знал Хохряков-младший, уважали на деревне Егоруньку, нет ли, только нужен он был людям, нужен был и отцу… «Митя, подь сюда!..» — услышал и за ворота вышел, а на скамейке отец и Егоруня, и говорит отец: «Во, приятель-то мой не согласен, чтоб ты из деревни, как вырастешь, уезжал: мол, кто у земли родился, тот землей и кормиться должен… Но я думаю, всяк волен выбирать, а у тебя это самое, вроде как талант, его надо беречь и растить. Скажи, Митя, прав ли я, нет ли?..» Он не ответил отцу, его смутил взгляд Егоруни, в нем была грустная усмешка, и ему захотелось поскорее уйти, но Егоруня взял его за руку и не отпускал, а отец мягко улыбался, уже и не слушая, о чем говорит Егоруня, весь уйдя в себя, в то доброе и нежное, что жило в нем и о чем Хохряков начал догадываться только теперь… И уж потом, когда Егоруня поднялся со скамейки и ушел, отец спросил: «Егоруня-то ругался, поди?.. Я и не слышал… Задумался…» И он сказал отцу хлестко и с визовом, чего никак не ожидал от себя: «Да, ругался!.. Зря, мол, ты забиваешь мне голову. После сам испереживаешься…» Он хотел обидеть отца: вдруг стало неприятно, что вот только и знает говорить о нем, будто и говорить больше не о чем, но отец не обиделся: «Пущай ругается… Когда Егоруня ругается — это добрый знак…»
«Добрый знак…» — усмехнулся Хохряков, и был он в этот момент очень похож на отца, и старичок заметил это: — Эк-ка… Эк-ка… — И еще не скоро спросил: — А скажи-ка, мил-человек, ты по делу к нам иль земляков проведать?..
Хохряков растерянно посмотрел на старичка: минуту-другую назад он уже слышал этот вопрос, и тогда не ответил, и теперь хотел бы промолчать, но старичок был на-стырен, и Хохряков нехотя сказал:
— Конечно, проведать… — сказал — и пуще того растерялся: не было еще, чтобы соврал… Стало стыдно, нет, даже не стыдно, скорее, неловко. Но эта неловкость не обижала и не давила на сердце, она была вроде бы само собой разумеющейся, и после того, как ушла растерянность, она даже подняла его в собственных глазах. И это тоже было для Хохрякова непривычно, это было до такой степени непривычно, что он невольно дернул себя за ухо, будто проверяя, он ли это на самом деле или не он — вовсе кто-то другой… Но через какое-то время он сказал себе, что не надо ничему удивляться,