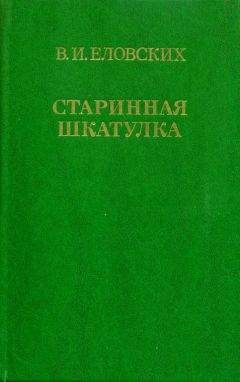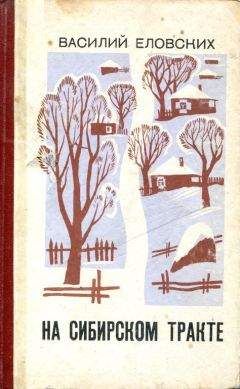— Прошу.
— А я не взял с собой паспорт. Зачем в деревне паспорт, к чему?
— Давайте другой документ.
— Какой другой?
— Документ, удостоверяющий вашу личность.
— Нету у меня другого.
— Значит, у вас нет никаких документов? Так?
— А зачем тут их?
— Пройдемте, гражданин. — Калиев показал рукой на двухэтажное деревянное здание с большими, холодно поблескивающими окнами — контору леспромхоза.
— Зачем? Я тороплюсь. Поехали.
— Не могу, — усмехнулся шофер. — Прокуратура.
На них оглядывались редкие прохожие. Какая-то древняя старушка, согнутая коромыслом, остановилась и, с трудом приподнимая голову, смешно настырно смотрела на всех троих мутными, слезливыми глазами.
— Гражданин, прошу не нарушать порядок. Пройдемте!
— Ну, чего вы упрямитесь-то? — непонятно усмехнулся шофер. — С вами говорит прокурор. Понимаете, прокурор?! — Шоферу вроде бы даже нравилось, что кого-то «сцапали».
На лице мужчины ни малейшего признака тревоги, большой толстый нос недовольно свесился над губой, глаза холодно-неподвижны. И Калиев подумал: «Кажется, напрасно трачу время».
— Пройдемте!
— Мне некогда. Когда приедем, тогда и поговорим.
— Прой-дем-те! — Калиев взял мужчину за руку.
Все дальнейшее произошло стремительно, разом, как это бывает в подобных случаях: вырвав руку, мужчина повернулся к прокурору, вытащил откуда-то из внутренней стороны плаща уже раскрытый перочинный ножик и, сжав губы, ударил Калиева куда-то в низ живота.
Васильев подолгу, порой до позднего вечера засиживается в кабинете, делая это, скорее, из подражания начальству, чем из служебной необходимости; кое-кто в организациях, а особенно в райкоме и райисполкоме, корпит чуть ли не до ночи. Уж там работают не работают, а все же сидят.
Говорят, в райкоме комсомола ребята по вечерам в шашки и шахматы играют и в окошко посматривают: как увидят, что свет в кабинете Рокотова потух, начинают домой собираться. Да и в конторе райпотребсоюза под конец рабочего дня тоже нечто подобное: открываешь дверь какой-либо комнаты и слышишь смех, веселые голоса — ясно, чем девоньки заняты: байки, анекдоты рассказывают или сплетничают, а завидев председателя, торопливо приникают к бумагам или счетам, изображая деловитость и озабоченность.
Когда поздно вечером он зашел к Рокотову, тот разговаривал с кем-то по телефону, лицо усталое, желтоватое, только голос по-прежнему бодрый, властный с металлическим оттенком. Движения рук сегодня резкие, быстрые, значит, раздражен чем-то.
«А все же есть в нем какой-то аристократизм, — опять подумал с удивлением Васильев. — Откуда это у него, потомственного плебея?»
Резко, с шумом положив трубку, Рокотов грубо зашмыгал носом.«Ну, а это не аристократично», — уже с некоторой иронией подумал Иван Михайлович.
— В Покровском леспромхозе какой-то бандит ранил ножом прокурора Калиева.
Васильев почувствовал, как екнуло сердце, и отвратительный холодок страха прокатился в груди, но справился с волнением и сказал спокойно, с чуть заметным напряжением, которое могло появиться у каждого при таком разговоре:
— А бандита задержали?
— Нет. Скрылся. Двое не могли захватить одного, растяпы!
— А что с Калиевым?
— Да ранение, к счастью, легкое. Спасло пальто. Оно у него на очень толстой подкладке. Специально заказывал такую подкладку, чтобы не мерзнуть. Вообще, история эта подозрительная. Тут не просто уголовное преступление.
— Ищут?
— Да, конечно. И не только милиция. Туда выехал Плотников.
Плотников — начальник райотдела КГБ, член бюро райкома партии.
Васильев слушал, и в голове бились суматошные мысли: «Он, мерзавец! Он!!. Поймают. Это не город. И… раскроется. Все!.. Я пропал!!.»
— Вы сегодня что-то плоховато выглядите, — сказал Рокотов, вглядываясь в его лицо.
Все в Васильеве было обычным, всегдашним — сутулился, темные мешки под глазами, глубокие морщины на лбу и возле носа, будто кожу надрезали, только во взгляде появились затаенная, неуловимая и беззащитная тревога и робость, что, видимо, и почувствовал Рокотов.
— Да, я болею. Знаете… в этом леспромхозе вообще много безобразий.
Он удивился, сколь спокойно произнес последние две фразы.
— Да, собирают всякое дерьмо — пьяниц, забулдыг и жуликов. Недавно там сын порешил отца. Выпили, поболтали и снова выпили. Попели, поплясали и еще пропустили сколько-то стопок. А когда вконец одурели, то начали драться. Утром будят сына: «Ты зачем отца убил?» Сын белеет, трясется и шепчет: «Не может быть!» Осенью мы предупредили на бюро руководителей этого леспромхоза. Но, видимо, не подействовало. Придется вновь разбираться.
В тот вечер он выпил полстакана водки и ему стало легче. На столе стояли бутылка, белоголовая, с синеватым пузом, соленые грибы и квашеная капуста, в форточку дул сырой, холодный ветер, пахнущий почему-то талой землей и гарью, с потолка свешивалась, покачиваясь на длинном изогнутом шнуре, электролампочка, светившая как всегда вполнакала, и по стенам комнаты шарахались слабые тени, — все было как-то призрачно, не реально. В окна тревожно били сухие снежинки, тоскливо завывала печная труба — начиналась пурга, и Васильев думал: «Когда-нибудь люди будут жить по тысяче лет и дивиться: какими странными были их далекие предки — жили по шестьдесят-семьдесят лет, терпели нужду, без конца воевали и пакостили друг другу».
Васильев был почти уверен, что Денисова схватят, и первые три ночи ложился на кровать, не раздеваясь, спал чутко, как собака, готовый в любое мгновение сигануть через кухонное окошко в сад, а оттуда умчаться в тайгу. Выставил зимнюю раму, стукнув по стеклу ножом, а жене сказал, что стекло разбил случайно и надо вставить другое. Порадовался: хорошо все-таки, когда жена — дура и верит всему. Раза два, как ему казалось, он, будучи на совещаниях, улавливал изучающий взгляд начальника районного отдела КГБ. В конторе он все вроде бы делал, что надо, но уже без былой легкости, лишь бы… А дома, чтобы как-то забыться, занимался физической работой, тоже как бы машинально: наколол поленницу дров, поправил изгородь в огороде, подремонтировал крылечко («Если что… Наде все равно пригодится»).
Странное дело: опасность, тревога, сомнения, частые думы о себе привели к тому, что у него — это Васильев хорошо почувствовал — ослабла память: порой даже забывал побриться, а отвечая на приветствия, раздумывал: «Из какой организации эти люди? Лица знакомы, даже знаю, кажется, — вот этот упрямый, злой, а этот вот добрый, слабохарактерный и под воротник закладывает, а где работают — убей! — не помню». Это страшило его.
И уже без конца каялся: надо бы с самого начала открыться и уж во всяком случае не менять фамилию, уехать куда-нибудь подальше, устроиться на простую работенку, а то придется теперь отвечать и за Денисова.
Все чаще и чаще появлялась на столе поллитровка. Выпьет — и на душе становится легче, опасное перестает быть опасным, страшное — страшным, и он уже кажется сам себе и энергичным, и умным, и находчивым, которому все — трын-трава. Трезвый дивился: как быстро человек привыкает к зелью, шагаешь домой и одна «мысля» в голове: выпить, быстрее выпить! Он еще более постарел и осунулся, стал неряшлив в одежде, и в ответ на ворчание жены «Когда ты кончишь пьянку эту?» — лишь недовольно мычал. Он отличался чистоплотностью еще с ленинградских времен, и Надя раньше просто диву давалась: «И что ты так часто моешь руки, слушай? И зачем-то яблоки чистишь». — «А у вас что — не чистят?» — «Ну, в войну-то какие яблоки…» А теперь она уже другому дивится: «Какой ты грязнуля стал…»
Васильев был все же привязан к жене, и привязанность вызывалась не только, точнее, не столько любовью, какая уж тут любовь, сколько стремлением иметь друга; безалаберная, надломленная, мутная душа его жаждала домашнего уюта и спокойствия, а все это, особенно спокойствие, к которому он многие годы безуспешно стремился, в его представлении было связано с одной женщиной. Поиски других и одиночество нарушили бы всякое равновесие и внесли бы в его жизнь дополнительные заботы и волнения. Мысленно он часто говорил Наде ласковые слова, а вслух редко, и она обижалась: «Сухарь, нисколечко не любишь меня».
Однажды, когда он мучился с похмелья, выдув целый графин квасу, смачивая голову ледяной водой, тяжело кряхтя и бессмысленно вышагивая по гостиной, ему вдруг захотелось навсегда исчезнуть из этого мира, причем как-нибудь незаметно, найдется множество способов: угореть в бане, принять лошадиную дозу снотворного, утонуть в реке, постоять босому на снегу и подхватить воспаление легких, чтобы никто, даже жена, ни о чем не догадались и похоронили бы его как самого порядочного человека, даже с некрологом в районной газете. «Странно, что я так беспокоюсь о собственных похоронах, — уже иронично подумал он. — Исчезнет мое «я». А тело… Господи, не все ли равно, что будет с телом: сожгут ли его, съедят ли черви или съедят вороны, — разве вороны хуже червей? Важно сознание… «Я» — это сознание, без него нет меня, нет ничего… Раньше самоубийство осуждалось религией, а в наши дни этикой. А ведь право каждого продолжать свою жизнь или кончить ее».