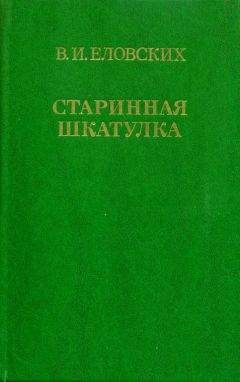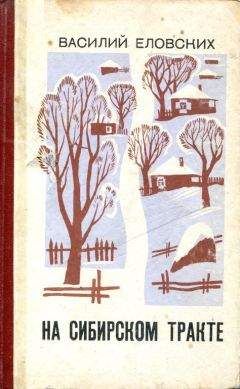Денисов был во дворе. Зашел в дом и начал грызть ногти.
— Не стой у окошка. Заметят.
— А тут милиционеры замухрышки. Отобьюсь.
— Только о себе думаешь. Отойди, говорю! И знаешь что?.. Тебе пора уходить.
Васильев хотел весело, по-дружески улыбнуться, но улыбка получилась деланной, затаенной, и Денисов насторожился:
— Уходить? Куда уходить?
— Как куда? Не будешь же ты здесь все время жить, черт возьми!
— Не надо сердиться! Зачем сердиться? — Он ухмыльнулся. Человек этот был всегда или глупо весел или озлоблен. — Уйду. Завтра уйду.
Вечером Васильев задержался в райисполкоме на совещании и пришел уже в темноте. Денисова не было.
— Почем я знаю, куда он поперся, — сказала Надя. — Говорю же тебе, что подозрительный какой-то. Я боюсь чего-то, Ваня. Ты бы сказал милиции, чтоб проверили его. Фронт фронтом, а чем он счас занимается?
— У тебя болезненная подозрительность, Надюша. И, вообще, ты за последнее время сникла как-то. Поезжай-ка, отдохни у бабушки. А я тут и один пока справлюсь.
Она была напугана, он видел это по ее поджатым губам, вдруг утратившим детскую припухлость, по тому, как приподнимались ее черные брови-дуги, но старалась казаться спокойной, даже улыбалась. Они жили, в общем-то, дружно, без ругани и размолвок, понимая друг друга с полуслова; Васильев все больше привыкал к жене, чувствуя постоянную благотворную потребность видеть ее, разговаривать с ней. У Нади удивительное пристрастие к чистоте и аккуратности: на столе, на комоде, сундуке и тумбочке — вышитые скатерти, салфетки, дорожки, на полу — старые-престарые, но всегда чистейшие домотканые половички; незатейливую, грубой деревенской работы, потемневшую от старости мебель она раза по два в день обтирает и раз в неделю чем-то смазывает, отчего мебель блестит холодным блеском и кажется сделанной не из дерева, а из металла. Она не могла усидеть, если видела: где-то что-то «не так стоит», «не так лежит» или к скатерти, к полу пристала бумажка или ниточка. И в какую ярость впадала, когда на стене появлялась мокрица, их полно в Карашином. Васильев, привыкший за годы войны к безалаберной, неустроенной жизни, чувствовал себя в квартире неуклюжим великаном, боявшимся что-нибудь столкнуть, разбить, загрязнить, и это напряжение смешило его и было ему в тягость. Люди, приходившие к ним, говорили: «О, какие у вас чудесные, светленькие комнатки!» Все время ругала его, что быстро грязнит подворотнички офицерского кителя, который он купил на городском рынке, мнет брюки, не чистит сапоги. И теперь в его старые сапоги и ботинки, в его пуговицы на кителе можно смотреться, как в зеркало, до того старательно драил он их. А какие чистенькие, аккуратные платьица у Нади. Васильев говорил ей с непонятным ему самому умилением: «Чистюля ты, чистюля!»
Он долго бродил по двору и по улице возле дома, сидел на завалинке, недоумевая и в то же время все более тревожась: куда же подевался постоялец?
Тихо подошел Денисов.
— Где ты был? — строго спросил Васильев.
— А что?
— Где ты был, обезьяна безмозглая?
— А ты что обзываешься?
— Не ори!
— Ну, что ты обзываешься, сволочуга?! Я вот те покажу обезьяну.
— Тихо! Где ты все же был?
— Ходил. А что по улице походить нельзя?
— Тебе нельзя. Здесь каждый человек на примете. Здесь тебе не город. Опасно. Понимаешь? Ведь я уже предупреждал тебя.
— Зачем угрожать? Не надо угрожать… У тебя есть вино?
— Нету.
В доме Денисов снова попросил:
— Налей стаканчик.
— Я же сказал, что нету. Нету и не будет.
— Не будет?
— Да, не будет.
Какие у него наглые глаза. Наглые и ледяные. Противно смотреть в них.
— Дам, но только завтра.
Все в этом человеке было противно Ивану Михайловичу: пошлые слова, толстый, будто приставленный к его харе нос, губы-ножи и разорванное сверху ухо. Его грязная рубаха в крупную ярко-синюю клетку тоже кажется Васильеву пошлой и злой.
«Боже, что мне делать?»
Когда они раздевались возле теплой русской печи, Васильев ясно почувствовал запах его тела, острый и неприятный. И это не потому, что пришелец был слишком уж неопрятен — ведь вчера и сегодня утром и днем не было никакого запаха, а просто в пору сильных треволнений у Ивана Михайловича почему-то страшно обострялось обоняние. Он стыдился такого обоняния, оно казалось ему возвратом к далеким предкам, рыскавшим в звериных шкурах по первобытным лесам, и когда начинал вдруг остро чувствовать тошнотворный запах кухни, бензина, машин и более слабые — от людей, у него начисто портилось настроение. Васильев никому никогда не говорил об этом, скрывал, так же, как скрывал необычную свою способность шевелить ушами.
И еще он отличался необыкновенной памятью, которую люди почему-то — вот чудно! — принимали за ум. Когда-то в детстве и самому ему казалось, что он с каждым годом, с каждым днем все более умнеет, а это было, как он сейчас понимает, обычное механическое запоминание, простое заучивание учебников. Старая учительница была щедра на похвалы: «Он такой, такой у вас способный!..» И матушка, слушая ее, гнула свое: «Будешь профессором или доцентом. Они все вон какие солидные, важные, чисто одетые». Однажды попросила прочитать ей молитву. Прочитал и тут же, отложив старинную, замусоленную — срам глядеть — церковную книжку в кожаном переплете, повторил непонятную молитву слово в слово. Мать была поражена. Прочитала ему древнюю песню, монотонную, длинную, и он почти всю запомнил. Мать воскликнула: «О, какой ты умный, сынок!» И стал с той поры он в глазах ее самым умным, самым серьезным, самым, самым… Говорила: «Ведь это ты!», «С твоим умом…» Иван Михайлович тоже долгонько заблуждался на счет своих способностей, явно преувеличивая их и не зная о том, что вундеркинды, став взрослыми, почему-то редко когда добиваются выдающихся успехов и настоящей славы. Решив стать математиком, он поступил в институт, закончил его, сколько-то работал учителем, но математиком не стал, вовремя поняв, что ни ученый, ни крупный педагог из него не получится, где уж там, природа наградила его только удивительно цепкой памятью; над любой задачей он корпел не меньше других; память куда как хорошо выручала, обогревала его, маленького, а потом стала холодной, неотзывчивой, как недобрая мачеха.
Утром, когда только-только начало синевато светить, Надя уехала на попутной райпотребсоюзовской машине в дальнюю деревушку к бабушке, та была уже совсем стара, одинока, жила в хилой избенке, но никак не хотела перебираться к внучке, чем озадачивала и дивила Ивана Михайловича. После ее отъезда он почувствовал себя вовсе одиноко и тяжело, даже не завтракал, лишь выпил стакан чая без хлеба и с неприязнью посматривал на Денисова, который уплетал все, что оставила на столе хозяйка дома: молоко, квашеную капусту, ватрушки с творогом. От него на весь дом разило алкоголем.
— В городе слышал анекдот, — сказал Денисов, вставая из-за стола и ухмыляясь…
«До чего же примитивен, просто на диво», — подумал Васильев. А вслух сказал:
— Ты должен сегодня же уехать отсюда. Понял? И постарайся сделать это как можно незаметнее. Устройся на работу. Лучше в колхозе. Или в леспромхозе. Я уже говорил тебе об этом. И если попадешься, обо мне ни слова. Понял? Ты понял?!
— Понял. Уеду, уеду. А ты что командуешь, ядрена палка? Кто ты таков?
— Чемпион Юпитера и Сатурна по французской борьбе. Это возле гипотенузы, недалеко от катета.
— Че-го?
— Хватит валять дурака. Ты мне надоел хуже горькой редьки. И не доводи меня до крайности. Понял? Иначе пойду в энкэвэде и сообщу о тебе и о себе. Мне много не дадут, не думай. Отсижу, если что. А скорее всего, ничего не дадут. Я не воевал против Красной Армии.
Он знал: все равно что-то «дадут», но хотел убедить Денисова в противном и тем обезопасить себя в его глазах.
— А вот тебе, Денисов, будет плохо. И ты подумай…
— Не пой-дешь. Ты же трус. Ты и добрым-то и порядочным-то стараешься казаться потому, что трус.
— Врешь!
— Прикрываешься добротой-то, как заслонкой. Тоже мне добрый! На словах все добры. Тюрьмы боятся, вот и в добрых играют. Добрые… Какие тока насилия и пытки и какую тока смерть не выдумал человек для человека. Что для одного горе, для другого радость…
— Ты смотришь на все глазами преступника.
— Ти-хо, ти-хо!
— Мир держится на доброте. И добро в конечном счете побеждает: мысль эта стара, как и сам мир. Иначе бы и не стоило жить. И рядом с добром видится мне в людях что-то и детское. К чему это я тебе рассказываю. Ведь все равно не поймешь. Но расскажу. Помню… На фронте видел. Собственно, не на самой передовой, я там никогда не бывал. Но где-то недалеко от фронта. Только что выпал снег. Смотрю, какая-то хромая баба на улице кормит хлебом оборванных и грязных ребятишек: дескать, ешьте, милые вы мои… А сама плачет. Им дает куски. А себе в рот крошки бросает. И видно, что ребятишки эти не ее, а чьи-то чужие. Иду дальше, гляжу: две старушки снежную бабу лепят. Глаза горят у старух. Ребятишек радуют и себя. А ведь война, голод.