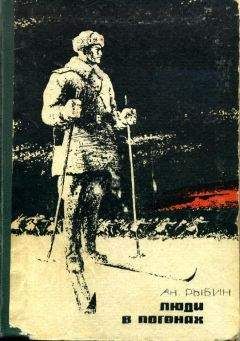Капитан замешкался, отвел глаза в сторону.
— Да вы не стесняйтесь, — подбодрил его Мельников.
— Не в том дело, товарищ подполковник.
— В чем же?
— Прямо так не говорила, а вообще было понятно...
Мельников взял Нечаева за плечи, притянул к себе, спросил участливо:
— Вы любите ее?
Нечаев промолчал.
— Все ясно, — уверенно сказал комбат. — Тогда слушайте меня, как мужчина мужчину. Все, что беспокоит вас, неправда. Ольга Борисовна порядочная женщина, и вы не можете думать о ней плохо. Я потом на досуге расскажу вам все подробно. А сейчас, капитан, прошу поверить моей офицерской чести.
— Да я что, я не с обидой, — поправился Нечаев. — Сказал, как думал, а ведь мог и молчать, конечно.
— Вы правильно сделали, что сказали. И не держите в голове эту мысль. Скомандуйте ей шагом марш, по-солдатски.
Нечаев повеселел. Он потравил сбитую набок шапку, сказал тихо:
— Если так, то извините, товарищ подполковник.
— Эх, капитан, капитан, и как вы этому поверили?.. Ну ладно, — махнул рукой Мельников. — Пустяки, Как настроение у людей?
— Хорошее, — ответил Нечаев. — Правда, кое-кто ворчит: вода, дескать, заливает. Нельзя ли отменить глубокие работы?
— Я слышал, — сказал Мельников, — даже Крайнов такую мыслишку носит. Забывают, что война ведь и болота не обходит. — Он подумал и заключил: — Недоработка, товарищ замполит. Наша с вами недоработка... А где майор Степшин?
— На левом фланге. Подполковника Сердюка сопровождает.
— Сердюк здесь? Помогать пришел?
Нечаев вздохнул:
— Не знаю. Пока недостатки выискивает.
— Тоже работа, — сказал Мельников, а про себя подумал: «Может, Жогин что-нибудь замышляет». Но тут же отогнал эту мысль, повернулся и пошел по мокрой траншее дальше, к самому левому флангу.
Вернулся из госпиталя Груздев. К Мельникову зашел он осунувшийся, бледный, но с живыми веселыми глазами. Подполковник поднялся из-за стола, обнял ефрейтора за плечи и поцеловал дважды крепко, по-мужски.
— Ну как, ожили? Правильно! — Он кивнул в сторону окна, за которым сияло солнечное небо и тихо покачивалась верхушка тополя, розоватая, с набухшими зелеными почками. — Глядите, весна!
Взволнованный теплотой комбата, Груздев часто моргал глазами и не мог ничего ответить.
— А мы вас к награде представили, — продолжал Мельников. — Не знаю, как там будет, но представили.
Растроганный вконец ефрейтор отвернулся и провел кулаком по глазам.
— Чего это вы? — спросил комбат.
— Да так, товарищ подполковник. Очень все неожиданно. Недавно был на гауптвахте, а теперь... Но ведь в карточке у меня клеймо поставлено.
— В карточке мы спишем.
Мельников подумал, затем подошел к телефону и позвонил в роту.
— Кто это, Крайнов? — спросил он. — Вот что. Возьмите карточку взысканий и поощрений Груздева и заходите ко мне.
Старший лейтенант быстро принес карточку, положил ее перед комбатом. Тот посмотрел, спросил строго:
— А где запись о последнем взыскании?
— Не занес еще, товарищ подполковник. Не успел. Разрешите, я сейчас впишу?
— Ну вот, — недовольно сказал Мельников, — человека уже к награде представили, а мы ему старое взыскание в карточку вписывать будем.
— А чего особенного? Впишем и снимем. Законно. «Теперь я вас, товарищ Крайнов, накажу, чтобы не забывали о человеке», — подумал комбат и распорядился:
— Вписывать не нужно.
— Спасибо, товарищ подполковник, — вздохнув, проговорил Груздев и совсем тихо добавил: — Вы уж извините меня за прошлое.
— Извинить не трудно. — Комбат подошел к ефрейтору и посмотрел прямо ему в глаза. — Вы подумайте, как быстрее стрелковую славу вернуть.
Груздев энергично вытянулся:
— Думаю, товарищ подполковник. Разрешите идти?
Мельников улыбнулся: «Вот она какая, душа человеческая. Сложна и светла, как мир».
В конце дня в штабе батальона появился Сердюк. Встретив в коридоре Мельникова, сказал с нескрываемой тревогой:
— Мне вас, подполковник, нужно.
— Пожалуйста, — ответил комбат, — заходите в кабинет.
Сердюк открыл дверь, сделал несколько шагов и заговорил торопливо, словно боясь, что не успеет высказаться:
— У вас, понимаете, допускаются такие вольности, что мне приходится разбираться.
— Например?
— Сегодня, понимаете, вы не разрешили Крайнову сделать запись в карточке взысканий и поощрений ефрейтора Груздева.
— Видите ли, когда надо было записать, Крайнов забыл, — объяснил комбат, — а сейчас нет смысла. Вы сами понимаете.
— Ничего я не понимаю. Следы взысканий стерты.
— Правильно. А зачем они, если человек совершил подвиг?
— А зачем стирать? — в свою очередь спросил Сердюк.
— Цель простая. Воспитание.
— Кто знает? Цели, понимаете, бывают разные.
— Какие же?
— Разберемся позже. Сейчас, понимаете, важен сам факт: сделать запись человеку не разрешили и ему же за это объявили выговор.
Мельников вдруг насторожился, хотел еще поговорить с Сердюком, выяснить все-таки, почему это важен ему сам факт. Но тот от прямого разговора уклонился и вскоре ушел в роту.
«Странно, очень странно, — возмущенно подумал комбат. — Ходит человек по батальону, выискивает разные факты, собирает их в блокнот. А зачем? Прицепился к карточке Груздева. Нашел, называется, нарушение...»
Не успел Мельников успокоиться, вбежал Степшин, заговорил, сильно волнуясь:
— Вы поймите, Сергей Иванович, подполковник Сердюк требует, чтобы я подписал акт на тот самый бронетранспортер, который по моей вине завалился в канаву. Но ведь он давно отремонтирован. Никаких следов от аварии не осталось.
— А вы не подписывайте, — сказал Мельников.
— Да, но Сердюк обещает вызвать к командиру полка.
— Пусть вызывает. Скажите, что есть комбат...
— Я так и сказал Сердюку... Но вы подумайте, Сергей Иванович, какая несправедливость! В акте написано, что я отстранил от машины водителя и будто самовольно сел за руль... Нет, как хотите, а я в такой атмосфере работать не могу, не хочу. Завтра же пойду в партийное бюро полка...
Комбат впервые видел своего заместителя таким разгоряченным. Собравшись с мыслями, сказал ему:
— Что касается партийного бюро, можете обращаться, имеете на то полное право. Можете также написать жалобу командованию. А насчет службы... — Мельников помолчал, потом добавил без горячности, но решительно: — Эти свои «не могу» и «не хочу» забудьте. Вы советский офицер и служите Родине, а не Сердюку. Ясно?
Степшин выпрямился и ответил уже сдержанно:
— Виноват... Нервы подвели, товарищ подполковник.
— Нервы держать надо, — сказал Мельников, но тут же подумал: «А все же он прав. Такое действительно больше терпеть нельзя, надо поговорить о Сердюке с командиром полка и поговорить немедленно, сейчас же».
Он быстро оделся, заправил под фуражку волосы и отправился в штаб полка. Но было уже поздно. Встретивший Мельникова дежурный офицер сообщил, что Жогин ушел домой.
— Жаль, — сказал подполковник и посмотрел на часы. «Ну что же, — подумал он, — пойду к нему на квартиру, потревожу немного. Будет, конечно, шуметь. Обязательно выругает. Но что поделаешь? Ведь Сердюк не только на моих нервах играет. Он и командиров рот дергает».
Мельников шел тропинкой, пролегшей между молодыми деревцами. Он почти успокоился. В голове все отчетливее складывался план разговора с командиром полка, подбирались нужные слова.
Подходя к домикам, комбат услышал музыку и чье-то пение. Пел мужской голос под аккомпанемент пианино. Тихий предвечерний воздух, пронизанный тонкими лучами багряного заката, казалось, сам звенел и переливался:
О, не волнуй меня, заря весенняя,
О, не мани в поля, где ветер ласковый...
Мельников остановился. Музыка и пение доносились из раскрытого окна жогинского дома, который выделялся среди других яркой желтой окраской. Пел сам Жогин. Пел старательно, ровно, с душой, выводя каждое слово:
Где ветер ласковый и травы нежные,
Где васильковые моря безбрежные...
Никогда Мельников не слышал, чтобы командир полка пел песни да еще с такой душевностью. Постоянно суровый, сухой, сейчас предстал он перед комбатом каким-то иным, словно обновленным. «А я иду к нему с неприятным разговором, — подумал Мельников. — Не стоит, может, портить человеку хорошее настроение?»
А песня все текла из окна и расплескивалась по улице. К мужскому баску присоединился бархатистый голос Марии Семеновны.
Голоса слились, и песня словно взлетела вверх, развернув сильные крылья. Те же слова, которые исполнял один Жогин, теперь в два голоса звучали иначе, по-новому:
О, не волнуй меня, заря весенняя,
О, не мани в поля, где...
Мельников слушал с удовольствием, продолжая стоять на дороге посредине улицы. Мысль о том, что не следует сейчас портить полковнику настроение, овладела им окончательно. «Да, да, не пойду, — решил он твердо. — Поговорю потом в штабе. А может, даже не с ним, а с Григоренко. Тот поймет быстрее».