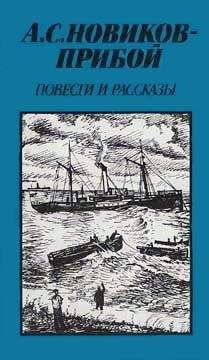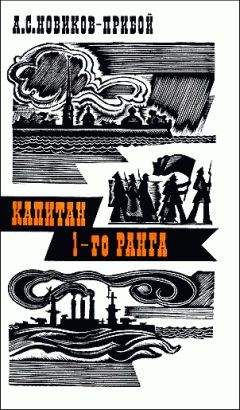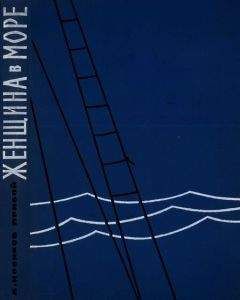Трифон, войдя в избу, остановился у порога, глубоко вздохнул и, покачав головою, заговорил:
— Да, вот оно как…
Его обступили бабы и ребятишки, беспокойно заглядывая ему в лицо.
— Сказывай скорее, што такое? — спрашивает Савоська.
— Старшина бумагу прочитал… Да… Гаврюху убили…
— Убили! — как эхо, повторила Фроська, беспомощно опускаясь около стола на лавку. В груди у нее что-то остро перевернулось. С минуту она сидит неподвижно, с помертвевшим лицом, вопросительно приподняв брови и раскрыв рот, точно кто ударил ее обухом по голове. Потом начинает бормотать, как полоумная, и, дрожа всем телом, заливается горячими слезами.
Изба наполняется плачем баб и ребятишек. Трифон, привалившись к косяку, стоит с поникшей головой, беззвучно шевеля губами и вытирая рукавом слезы. Савоська, усевшись на коник, согнул спину и смотрит вбок так, как будто хочет боднуть кого головой.
Жена его торопливо зажигает у божницы свечку. Больной старик отец, свесив с печи голову, беспокойно смотрит потухшими глазами на плачущих: высохшее, сплошь в морщинах лицо — в недоумении.
— Али беда какая? — спрашивает он слабым, старческим голосом. К отцу подходит Трифон и, став на ступеньку, долго объясняет ему на ухо.
— Так, так, говоришь, убили… Не дождался я своего милого чадушки… Ну, бог даст, скоро на том свете увидимся…
Глаза старика заволакиваются мутными слезами. Подняв выше голову, он крестится, глядя в передний угол, и шепчет скорбно:
— Господи, удостой раба своего царствием небесным…
И, кряхтя, ложится на свое место.
У Фроськи двое детей: Илюша пяти лет и Анютка двух лет. Она прижимает к себе ребяток и, рыдая, приговаривает:
— Детки, детки мои милые, сердечные. Как жить-то мне с вами, печальной головушке. Нет у вас батюшки, нет родного кормильца… Остались вы сиротками бесприютными… Породила я вас на муки мученические…
Точно понимая слова матери, дети плачут во весь голос, скривив рты и морща лица.
Фроська, откинувшись назад, всплеснула руками и заколотилась вся, точно подстреленная. Перед глазами все мутно, ничего не видит, в груди боль. Обезумев, она сбрасывает с головы повойник, рвет свои черные волосы. Ее удерживает Трифон с прибежавшими соседями. А опомнившись, она облокачивается на край стола и, всхлипывая, жалобно причитает:
— Желанный ты мой, Гаврилушка… Сокол… сокол мой любимый! Ждала я тебя дни и ночи, надеялась вскорости свидеться. Но злая судьбинушка разлучила нас навеки… Сабля острая разрубила твою удалую головушку, пуля-злодейка пробила твое ретивое сердце… Лежишь ты, ненаглядный мой, на сырой земле чужестранной…
Всем в избе кажется, что так именно погиб Гаврила, у каждого на душе становится холодно и жутко. Кругом плачут, что-то говорят.
Старшая невестка, согнувшись, сидит у окна, роняя на пол слезы и вздыхая:
— Да, вот и не стало нашего богоданного братца, А уж такой был хороший человек, такой тихий да обходительный…
Потом, как бы что-то вдруг вспомнив, сердито набрасывается на свою дочку:
— Грунька! Я тебе сколько раз баяла — сходи к бабушке Василисе за шерстью. А ты, сорока бесхвостая, все тут вертишься!..
Девочка быстро выбегает на улицу, а мать, склонив голову набок и поддерживая подбородок рукой, опять начинает плакать.
В избу один за другим приходят соседи, расспрашивают, крестятся за упокой души Гаврилы.
Фроська, подняв заплаканное лицо, обращается к ним с мольбою:
— Ой, послушайте меня, соседушки спорядовые, приближенные! Не откиньте меня, вдову бесприютную с малыми детками бессчастными. Как пойдут мои сироты по миру шататься, милости у крещеных выпрашивать, постучат они под ваши окошечки, голодные и холодные, — приютите их в своих теплых гнездушках, обогрейте, обласкайте, уму-разуму научите…
Соседка-старушка, маленькая и сухая, с острым птичьим носом, треплет Фроську по плечу, отвечая заунывно:
— Перестань-ка ты плакать, бедная вдовушка, перестань ты тужить, мать горе-горькая. Не тревожь душеньку Гаврилову. Больно ей слушать твое надрываньице… И не одна ты на свете бесталанная. И у вдовушек растут детки здоровенькие.
Напрасно унимают Фроську. Она сознает лишь одно, что для нее теперь нет радости в жизни, все погибло и никто, никто уже не утешит ее, ничто не заглушит ее горя.
Уронив растрепанную голову на стол, она продолжает горько причитать.
В глубине раненого сердца рождаются особые слова и сами собою складываются в скорбную песню.
— Гаврик, Гаврик!.. На кого ты меня с детками спокинул? С кем я теперь буду крепкую думушку думать, с кем совет держать, с кем рассею злую кручинушку? В ком найду я великое желаньице? Без поры, без времени молодость моя прокатится, головушка моя печальная не вовремя состарится… Ой, Гаврик, Гаврик!.. Не придешь ты больше к нам на своих резвых ноженьках, не улыбнешься, не скажешь ласкова словечка… Дождички осенние, обмойте косточки моего дружочка, а ты, солнце красное, обсуши их, а ты, мать-земля родная, сохрани их до божьего суда!..
III
Над японским городом только что пронеслась грозовая туча, пролившись теплым, обильным дождем, и снова прояснело высокое голубое небо. Все выше поднимается огневое солнце весны, все ярче горят его лучи, — отдохнули в грозу и теперь нагоняют потерянное время. По неровной холмистой долине, среди зелени садов и рощ, плотно прижавшись друг к другу, выступают в ярком освещении деревянные одноэтажные домики под красными углами черепичных крыш. Река, разделяя город на две неравные части, бурно и звонко шумит по каменным порогам, местами взбивая мягкую белоснежную пену, и широкой, извилистой, сверкающей, как серебро, лентой убегает вдаль. В мутных лужах на мостовой, играя, переливается золотыми бликами солнце. Пыль прибита дождем, воздух прозрачный и бодряще свежий. В домах с раздвинутыми передними стенками почти никого нет, зато на улице кипит жизнь. Здесь женщины, засучив рукава, стирают белье, громко переговариваясь между собою, другие, сидя на маленьких скамеечках, вяжут или вышивают; мужчины пишут кисточками на бумажных свитках письма, делают игрушки, плетут корзины. Всюду, точно искры, брызжут веселые голоса ребятишек. Стуча о камни мостовой высокими деревянными сандалиями, проходят японцы в темно-синих или серых кимоно, японки в пестрых халатах с просторными болтающимися рукавами; они подпоясаны широкими разноцветными поясами с пышными бантами назади. В окнах и дверях магазинов блещут груды выставленных товаров, толкутся, шумно обмениваясь впечатлениями, покупатели. Кругом все бойко, пестро в славный весенний день.
А темно-синяя туча, клубясь, медленно уходит все дальше, туда, где возвышаются спокойные громады гор. Слышен отдаленный последний рокот грома.
В больничных бараках, окруженных садом, бумажные окна открыты. Свежий, ароматный после дождя воздух веет в них, разгоняя тяжелый запах лекарств. Те больные, что поздоровее, стоят у окон, любуясь весенним днем.
Для русских отведены особые отделения. На одной из коек, боком, головой к окну, лежит солдат, одетый в японский больничный халат. На его лицо, свернутое к левому плечу, положена наискось белая повязка: она закрывает нос, рот и всю щеку. Видны лишь левый глаз, устремленный в потолок, и скула в темно-русой щетине. На повязке, против рта, маленькое отверстие для дыхания. Из-под подушки торчит закрытая книга. Больной задумался, ничего не замечая вокруг. Удары грома напомнили ему о последнем сражении.
— Ух, ты! — произнес больной вслух, чувствуя ледяной холод на спине. Приподнявшись и скосив лицо, он долго смотрит на свою левую, оторванную по колено ногу, для чего-то трогая ее рукой.
— Ты что, Гаврила? — проходя мимо, обращается к нему другой больной.
— Ничего… Так себе…
Водопьянов улегся на спину, угрюмо оглядывая одним глазом палатку.
На соседней койке, болтая свесившимися ногами, сидит солдат. У него проломлен череп, поврежден мозг. Наклонив повязанную голову, он уставился мутными глазами в пол, чавкает большим черным ртом, словно что-то с трудом разжевывая, и морщит свое изношенное бородатое лицо.
— Тьфу!.. Как есть падаль… — сплевывая и крутя головою, говорит он и снова начинает жевать.
Дальше лежит тщедушный пехотинец, которому недавно отняли руку по самое плечо. Он жалобно ноет:
— О-о-й!.. Моченьки нет!.. Господи, умереть бы!., А-а-а!..
В его голосе столько мучительного страдания, что Водопьянов невольно вздрагивает.
Тут же около окна стоит кучка изуродованных, но уже выздоравливающих солдат. Между ними — два японца. Русские усердно учат их ругаться матерно. И когда они, ломая язык, произносят скверные слова, раздается надрывистый, нездоровый смех. В дальнем углу безногий, как обрубок, артиллерист напевает какую-то песню.