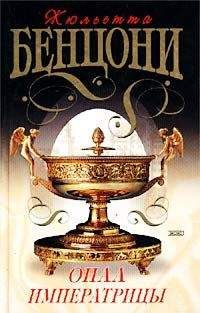Когда Катя собралась к фельдшеру, она остановила ее:
— Не надо, Кать. Мне и так хорошо, легче… Ты мне голову подыми выше… Ивана Степаныча, учителя бы кликнула.
Легче Нюше было в том значении, что она вдруг, освободясь от жаркого удушья, опять потеряла ощущение собственного тела, плыла в бездонную прохладу и не желала, чтобы ей мешали…
Катя послала соседскую девочку за учителем, а сама ночной улицей трусцой побежала к фельдшеру. Ее подгоняли страх и вина, хотя виновной в болезни матери себя она б не назвала. Мать сама простудилась, сама и выздоровела. Но вот то, что нашло на нее теперь, было тяжелее и опаснее простуды. Еще неделю назад, когда Нюше после хождения на станцию стало плохо, Катя испугалась, что мать умрет обманутой. «Я век не прощу тебе и себе этого», — сказала она мужу. Теперь мать умирала как раз от того, что обман раскрылся. Кате было неловко, обидно, она упрекала мужа, себя. Но упреки эти скользили по поверхности ее души, а где-то в глубине закипала досада на мать:
«Боже мой, надо же гробить себя из-за этого… — с осуждающим изумлением думала она. — Коли понравится Марийке поездка, она может еще поехать в Германию, и узелок прихватить, и могилы поискать. Дело-то неспешное — не в первый, так в другой раз… Беда, мам, не больно велика, чтобы так убиваться из-за нее…»
Однако эти мысли Катя отталкивала как неуместные, греховные, сейчас полагалось думать о другом, о том, как спасти мать, как оправдаться перед нею и собой. И она искала эти оправдания: «Да разве только ты печешься о Грише, Мите и Вареньке? А я?.. Мне-то они тоже кровные, родные. Хоть что отдам, если бы вернуть…»
Впотьмах Катя споткнулась, угодила ногой в лужу и снова полыхнул, заметался в ней огонек досады. Ей бы сейчас не грязюку эту месить, а спать после нелегкой смены, Да и матери не помирать, а только бы жить-поживать теперь: сыта, одета, сиди-посиживай на всем готовом, в окошко поглядывай… Ан нет, вон что вытворяет, наказы шлет… Не подумавши. Будь так просто, все давали б такие наказы, все бы поехали разыскивать могилы. Да вот, послышь, не дают и не едут… Миша-то хоть и груб сердцем, но верно сказал…
Катя с тоской и одновременно с бабской гордостью подумала, что даже сейчас, осуждая мужа, она не перестает жить его мыслями и словами. В этом была какая-то невольная измена матери, и Катя снова стала отталкивать от себя недостойные мысли…
Фельдшера дома не оказалось, уехал с ночевьем в город за лекарствами. Да он и не понадобился бы.
К утру Нюша затихла на руках у Кати. Открытые тускло-серые глаза ее были строги и немы…
Из райцентра Михаил возвращался на мотоцикле рано утром. Двухдневный семинар животноводов прошел для него удачно, славно: ему пришлось дважды выступить, первый раз — сам пожелал, второй — попросили. Ему было о чем рассказать: совхоз который год перекрывает планы по сдаче мяса и молока, держит ведущее место в районе… Михаил не раз поднимался на эту трибуну, привык, спокойно смотрел на сидящих в зале, говорил кратко, толково, изредка встряхивал высоким смоляным чубом, зная, что многие завидуют ему, а женщины любуются им.
Особое удовольствие получал от мысли, что на семинаре присутствует человек из области, который, слушая его выступления и встречаясь с ним взглядом, одобряюще кивал, а в одном из перерывов подошел и за беседой угощал сигаретами.
С чувством какого-то счастливого приобретения ехал Михаил домой. Внутренне гордясь собой, своей удачливостью, умом, крепким знанием дела, он в мыслях с удовлетворением отмечал, что семинар этот, как и недавно прошедшие, внес в его судьбу какие-то пусть незначительные, но важные поправки, ценность которых определится позднее. Семинар был полезен ему не только содержанием, ходом и самим фоном, на котором он, главный зоотехник передового совхоза, выгодно выделился, но и тем, что после кто-то что-то скажет о нем, Михаиле Волкове, где-то там, в верхах.
Он как-то по-особенному остро, почти болезненно жаждал, чтобы его хвалили, ценили, продвигали, боготворил тех, от кого зависел, но меньше считался с теми, кто был зависим от него. Работал, не жалел себя, подстегивал других. Старался, казалось, не для выполнения планов и обязательств совхоза, не для общего, как говорится, государственного дела, а словно бы для тех стоящих над ним Романов Степановичей, Эдуардов Петровичей, Борисов Яковлевичей… — для конкретных лиц районного и областного начальства, которые в свою очередь могли конкретно повлиять на его судьбу.
Он не видел в этом угодничества, просто по-своему определял целенаправленность своего труда, оценку которому он желал бы иметь сиюминутно. Она была ему нужна, как эстрадному артисту аплодисменты…
Я знаю, у красотки
Есть сторож у крыльца…
Михаил гнал мотоцикл на запредельной скорости, встречный ветер высекал из глаз слезы, набивался в его широко раскрытый поющий рот. И эта скорость, и заревой, пахнущий инеем, тугой ветер, и бодрые мысли об удачливости нынешней его жизни, о стремительном движении ее еще к лучшим дням вызвали в душе именно эту разудалую песню, в которой тоже преуспевал кто-то смелый, уверенный.
Ничто не загор-р-родит
Дор-р-рогу молодца.
В сизо-туманной дали показалась Ручьевка, игрушечно нарядная издали, маленькая и уютная, и в Михаиле дрогнула жалость к этой деревне, которой он отдал столько лет и сил, но с которой он без колебания распрощается при первом же удобном случае…
Эх, была бы только тройка
Да тройка порезвей…
…В дверях дома Михаил столкнулся с Катей. Приглушенно воя и причитая, она ткнулась ему в грудь, обвисла плетью.
— Что у вас тут? — встряхнул он ее за плечи.
— Маманя померла, — горько, как-то по-детски сиротливо сказала Катя, затем резко отшатнулась от мужа и, взглянув, испугала его своим багровым, опухшим от слез лицом и чужими глазами:
— Это ты, все ты, артист несчастный, натворил!.. А я, дура, хлопала ушами, слушала. «Если трезво рассудить, если здраво взвесить…» Вот и дорассуждался. А она, маманя-то, по-своему все рассудила… У-у-ух, — Катя снова тихонько заскулила, прикрыв лицо ладонями.
— Нет, постойте-ка, погодите, — обращаясь к кому-то, заговорил Михаил, отстраняя от себя жену, невольно отмечая, как исчезает лучистое дорожное настроение. — Как? Из-за чего?..
Переступив порог, энергичным размашистым шагом прошел в горницу. Он не верил плачу и словам жены.
Взгляд его уперся в длинный черный прямоугольник, вставший почти от пола до потолка. Он сообразил, что это зеркало, завешанное черной шалью. На столе горела высокая свечка, свет ее терялся в бьющих в окно лучах утреннего солнца. Мать, покрытая до подбородка коленкором, лежала на двух сдвинутых скамейках, неузнаваемо длинная, прямая и строгая.
— Нет, постойте-ка, погодите, — Михаил в мыслях снова обратился к кому-то, желая остановить происходящее. Остолбенело замер, стоя посреди горницы.
Неслышно, тенью вошла бабка Андрониха, соседка, с достоинством перекрестилась, села в изголовье покойницы. Вплыли еще две старушки, безмолвно и усердно крестясь и отвешивая поклоны. Тихонько заохали, завздыхали:
— Ешшо ить прошлым утром говорила я с ней. Анна подушки выносила на ветер трясти. Постельку, говорит, освежу, уберу. Ан сама убралась…
— Ох, избавь, господи, от наглой смерти.
Эти слова и голоса как бы не доходили до Михаила и вместе с тем оглушали, раздавливали его. Он повернулся и вышел в сени. Увидел там жену, с нетерпением и страхом шагнул к ней:
— Послушай, как же все-таки… Неужели от того? — тихо спросил он, ожидая и боясь ответа.
— Да, Миша, от того самого, — устало и мирно сказала Катя. Она сидела на полу и ощипывала петуха. Рядом еще лежало несколько порубанных петушков. Выплакавшись за ночь, Катя кротко и деловито готовила матери поминки. — От того, Миша… да и простуда в ней еще держалась… И вот растревожила себя узелком, слегла, ну а болезнь-то скомкала ее в момент…
— Надо же, из-за пустяка… Черт знает что! — Михаил повысил голос.
— Ты тут не черти. Грех… И маманю теперь не трожь… Для тебя пустяк, а для нее важнее этой просьбы, может, ничего и не было…
Помолчали, виноватые, притихшие.
— Ты насчет похорон бы похлопотал: гроб, оградку…
— Да, да, я сейчас… все организую, — с готовностью забормотал Михаил, наливаясь какой-то горькой радостью от мысли, что у него еще есть возможность сделать что-то для матери.
Он вернулся в избу.
По горнице плыл монотонный, как глухое бормотание далекого ручья, голос Андронихи. На ее костистом сером лице непривычно блестели роговые очки. Вся в черном, она стояла возле горящей свечи, держа в руках раскрытую книгу, древнюю, донельзя истлевшую. Из ее темного, почти незакрывающегося шепелявого рта безостановочно лились слова — суровые, непонятные, жуткие. И, омываемая ими, Нюша теперь будто уплывала куда-то безвозвратно и уже не принадлежала себе, ему, Михаилу, Кате, родному дому, отданная во власть этого таинственно-зловещего, враждебного всему живому обряда, который завершится лишь ее исчезновением с лица земли. Михаил ник от мысли, что со всеми желаниями, намерениями уважить мать он непоправимо опоздал, и от этого чувство вины лишь более накалялось.