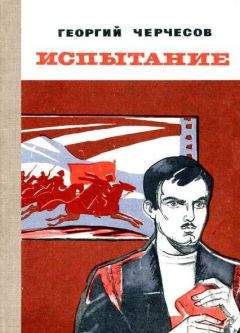— …Подышать воздухом его юности, услышать голос старцев, увидеть небо, речку, погладить рукой камень у речки, ощутив его холод, как когда-то он ощущал, тосковать по большому делу… — Без этого я не сумею воплотить их в яркий образ… — сверкающие глаза выдавали в нем человека, в котором есть твердость и умение побеждать.
Он оголял свои мысли и заботы, совершенно не стесняясь укоризненных, недоуменных взглядов людей. Кто же он? О чем он говорил? Какого Мурата упомянул? Говорит об ярком образе? Не писатель ли он?
— Мне нужен человек, который легко сходится с людьми, — обратился к Николаю Николаевичу очкарик. — Такой, как он, — показал он на Майрама.
— Это он умеет: сходиться легко с людьми определенного пола, — усмехнулся начальник АТК — Смотрите, я вас предупредил, — и обратился к Майраму: — Эй, гид-остряк! Чтоб послезавтра машина была на ходу. Будешь на вызовах у товарища Конова, — спохватившись, пояснил: — Савелий Сергеевич, которому ты пытался дать экскурсию, — режиссер. Приехал снимать фильм…
Майрам услышал «фильм, кино» — и что сделал? Возразил? Ничего подобного. Кто не хочет быть близок к кино? Он стоял и молчал. Ник Ник объявил ему:
— С завтрашнего дня считай себя прикрепленным к товарищу Конову… С вечера будешь узнавать, есть ли у диспетчера вызов на утро, и если нет, — будешь работать по городу. — Так? — обратился он к режиссеру.
— Машина нам нужна не каждый день, — согласился очкарик.
Николай Николаевич строго посмотрел на Гагаева:
— И смотри мне, чтоб был полный порядок. Дело не шутейское. Это тебе не цирк! Кино.
Начальник АТК и режиссер поспешили в контору.
— Пойдем, — обратился Илья к Волкодаву, — выручку сдадим.
Майрам остался один. Но ненадолго. Вскоре возле него оказался Илья. Молча примостился на шине, валявшейся на цементном полу. Он не мог сидеть, ничего не делая, и стал подавать Майраму то гайку, то отвертку.
— Тебе бы остепениться, — заявил он после некоторого молчания, — несерьезный ты. Все смешки. А дело наше не для смеха.
Ну, если Илья, сам остряк и баламут заговорил, значит, Майрам и в самом деле дошел до ручки. Значит, надо ему менять пластинку. Майраму и так муторно, а тут еще и Илья поддает газ. Терпелив Илья, не ушел, хотя спина Майрама кричала ему: «Иди, иди, отцам семейств следует побольше отдыхать, заждались тебя дома!» Но друг продолжал теребить его рану:
— Учиться тебе надо.
Привычно прикручивая гайку, Майрам, слегка повернув лицо к надоедливому собеседнику, невинно спросил:
— Зубрить? Для чего? У меня сосед есть. Тремя классами старше был, в школу меня с братом водил. Я домой — двойку, сосед — пятерку. Я — с шишкой, он — чистенький. А сейчас? Я домой — три куска, а он от силы кусок. Я — в костюмчике, что Кирилл сшил на заказ, а он в импортном, позапрошлогоднем? От матери я только и слышал: «Посмотри на Казбека!» А теперь я ей: «Погляди на своего Казбека!» То-то! Десять лет с книжками да тетрадками в школу бегал, потом пять — в институт, в шкафчике дипломчик имеет, а я ему по всем статьям фору дам!
— Все сводишь к материи, — горестно покачал головой Илья.
— Мотор без бензина — железяка и только! — возразил Майрам и уверенно добавил: — Нет, я Казбека обошел!
— Врешь ты, Майрам, — серьезно сказал Илья. — Чего ж тогда братца и сестренку учишь, в люди выводишь?..
…Илья повесил на гвоздь кепку, засучил рукава, спрыгнул в яму, плечом оттиснул Майрама в сторону, оценив зияющую рану, сочувственно подмигнул «Крошке»:
— Утром как новенькая будешь! — и ловко стал откручивать гайку, которую Майрам только что закрутил, тот не стал возражать: Илья знает, что делает…
Машины, выстроившись в ряд, выглядывали из-под навесов. тускло поблескивающими ветровыми стеклами. Будто живые существа, они, наслаждаясь кратким отдыхом, стояли настороже, ожидая внезапной команды, готовые мгновенно сорваться с места и умчаться в тьму. Погасли окна в девятиэтажном доме, нависшем над автобазой. Город притих, теперь ничего не заглушало спокойный, мерный, укачивающий шум Терека, Майрам и Илья все еще корпели над «Крошкой»… Под утро у проходной мелькнула тень. Выглянувший из будки сторож махнул рукой в их сторону. Бесшумно ступая, тень медленно пересекла двор, приблизилась к боксу. Черный платок и длинное серое платье. Мать! Сработала-таки родительская интуиция! Подняла с теплой постели, погнала пешком через весь город. Она знала, что Майрам не любит ее визитов, но пересилить себя не могла. Направленные на яму фары машины Ильи слепят, не позволяют разглядеть мать, а ей все видно.
— Как погнул, а? — возмутился уставший Илья и отрывисто приказал: — Поддержи здесь.
Майрам присел на корточки. Теперь увидел мать. Она прижалась щекой к холодному косяку двери, и губьп ее беззвучно шевелились. Беззвучно, но Майрам-то ее слышал! Он знал, что юна шептала, что говорят в таких случаях все матери. И не важно, на каком языке они произносят, это всегда звучит одинаково:
— Живой, сынок…
Ну, чего ты, мать, мучаешь себя? Зачем пришла? У меня такой закон: попал в аварию, корпи до тех пор, пока не залатаешь все и машина не будет на ходу. Хочу поскорее избавиться от свидетельств своего позора. А ты, мать, иди домой и не волнуйся. Если бы ты знала, как тяжко бывает видеть сгорбленную, слабенькую фигуру матери, которую беспокойство тебе подняло с постели и погнало в путь, ты бы постаралась н. показываться мне. Иди-иди, мать, не заставляй мои глаза наполняться слезами. Мне еще работать надо, а ты вызываешь в груди щемящее чувство вины перед матерью, которое всегда появляется, даже если ты не чувствуешь за собой никакой вины. Так уж устроен человек: какую бы славу ни принес он р. дине, каких бы успехов ни добился, кем бы ни стал, а перед матерью он всегда чувствует долг, ибо всегда видит в ее глазах тоску и боязнь за себя.
Иди спать, мать. Знаю, что рано утром ты будешь у Николая Николаевича, и не остановить тебя, даже если караулить у дверей дома. Ты пойдешь к нему, и никакие увещевания Светы, убеждающей тебя, что начальнику не до посетителей, чтоу него идет важное совещание и прерывать его нельзя, потому что конец квартала, а плана нет, — ты будешь слушать, будешь ей охотно кивать в знак согласия, но незаметно для нее окажешься у двери в кабинет и откроешь ее, массивную, и войдешь к начальнику в самый разгар обсуждения неотложной проблемы, и прервешь выступающего без всякого стеснения, потому что тебя сюда привел закон материнского сердца, но Николай Николаевич не захочет принимать это обстоятельство за вескую причину и, отругав чуть ли не заплакавшую от обиды Свету, попытается выдворить тебя за дверь, а ты с ходу начнешь доказывать им, какой хороший у тебя сын, как он кормит всю семью, как старается, чтобы в отсутствие отца никто ни в чем не нуждался, даже бросил учебу, а на это сейчас не каждый решится… И ты откажешься покинуть с таким трудом завоеванные позиции, и будешь говорить, доказывать, просить, умолять… И остановить тебя никому не удастся, и тебя будут слушать с легким раздражением, но выгонять не станут, потому как ты посетитель и к тому же горянка, а вековые обычаи нарушать нельзя, если не желаешь прославиться навеки и опозорить всю свою фамилию… Николай Николаевич будет поглядывать на тебя исподлобья, дожидаясь, когда ты выговоришься, чтоб заявить: «Приказ издан, и ничего уж сделать нельзя». И ты начнешь опять все сначала, опять напомнишь о семье, у которой внезапно не стало кормильца, опять начнешь меня покрывать материнской позолотой, вспоминать все мои добродетели. А когда Николай Николаевич затрясет отрицательно шевелюрой, ты станешь настойчиво допытываться у присутствующих, разве Майрам не работящий. «Хороший он», — будешь твердить ты, а Ник Ник, доведенный до бешенства твоим напором, провозгласит: «Хороший?! А мне не нужны хорошие! Пусть и у других работают такие хорошие! Мне не надо!» И тогда ты умолкаешь. Ты попросишь, чтоб кто-нибудь из участников совещания уступил тебе, пожилой горянке, стул, поставишь его посреди кабинета, прямо напротив начальника, и усядешься плотно и надолго…
Иди, мать, домой, иди. На сей раз ничего этого не надо. Повезло мне, благодаря моему пассажиру-очкарику. Иди, отдыхай, не то в следующий раз не Ник Ник не выдержит, а твое сердце. А это для всех нас будет ужасно. Иди отдыхать, мать, и не плачь, не расстраивай ни себя, ни меня… Не один я такой у тебя. Скажи, какой сын оправдывает надежды матери? Какой не заставляет ее страдать? Из-за кого не рыдало сердце матери, не сжималось от боли, огорчения и обиды? Ты знаешь таких? Я не знаю. Так уж устроены ваши сердца, матери, что они всегда болят за сыновей, переживают за них даже тогда, огда они этого не заслуживают… Иди, мать, домой…
* * *
…Через два дня Савелий Сергеевич скомандовал Майраму: — Кисловодск! — и пояснил: — Будем сватать актера на роль Мурата.