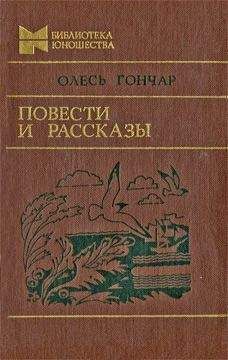— Пошли в комнату, — сказал наконец Сережка и, повернувшись к Ляле спиной, первым стал подниматься в дом.
— А я думала, что ты до сих пор лежишь, — сказала Ляля, когда они прошли через кухню в комнату Сережки и остались одни. — Решила проведать.
— Спасибо, — буркнул Сережка. — Теперь не улежишь.
— Зажили твои раны?
— Затягиваются.
— А я целые дни дома и дома. Будто в яме.
— Читаешь?
— Сейчас это единственное утешение.
— Что ж ты читаешь?
— Еще раз перечитала «Как закалялась сталь». Как-то особенно, по-новому теперь все это воспринимается…
— Жизнь консультирует, — горько заметил Сережка.
— Ты знаешь, — сказала Ляля немного погодя, — наши уже пригласили портниху, чтобы учила меня шить.
— Что ж… предусмотрительно…
— Может, попаду к какой-нибудь немке, и шитье избавит меня от конюшни. Ценная профессия. А ты?
— Что я? — посмотрел Сережка на Лялю. Его стрельчатые брови были высоко подняты. Они всегда высоко подняты, будто однажды что-то удивило юношу и он до сих пор вспоминает об этом. — Я… ничего.
— Как ничего? Наверное, пишешь?
— Понемногу.
— Почитаешь? — Ляле не столько нравились Сережкины стихи, сколько искренний пафос, с которым он всегда их читал. — Почитай, Сережка.
— В другой раз, — отмахнулся он, смущаясь от того, что ему и впрямь хотелось читать свои стихи.
— Я же вижу, что тебе хочется прочесть, — сказала Ляля. — Не ломайся.
Сережка нервно пригладил назад свой черный чубик и, встав из-за стола, прошелся к окну, выходившему на Первомайский проспект. Внизу, возле подъезда противоположного дома, стояли в ряд немецкие автомашины.
— Открывают банк, — процедил Сережка сквозь зубы.
— Я больше не прошу, — предупредила Ляля капризно.
Сережка, глядя в окно поверх дома, начал своим хрустальным тенорком:
Ранец возьму на плечи,
В карман бумаги лист,
Пойду, неизвестный предтеча,
В ветреный дикий свист.
Пойду я за дали морские,
В нездешние страны пойду,
Туда, где дома городские
Не рушатся в дымном аду[2].
Сережка оглянулся на Лялю. Она слушала. Тогда, еще выше подняв голову, он продолжал:
Невольничье солнце серо
Светит в моем краю.
Тигры или пантеры
Примут меня в семью.
Презрев человека и зверя,
В джунглях построю вигвам,
В единого бога веря,
Которого выдумал сам.
Закончив читать, Сережка снова оглянулся на Лялю. Девушка смотрела на него насмешливо.
— Далеко же ты собрался, друг, — сказала она иронически. — Бежать, значит, надумал?
— Не бежать, а идти!
— Это софистика. Главное, от кого уходить? Не от самого ли себя?
— От фашистов! — твердо сказал Сережка.
— От них ты, наверное, недалеко убежишь. Догонят. Не успеешь построить свой вигвам «среди тигров бурых».
— Ляля! Я прошу тебя: не иронизируй!
— Я не иронизирую. Скажи, Сережка, ты это серьезно: «полон презренья ко всему»? Неужели ты решил отречься… от всего?
— От чего «от всего»? — не понял сначала Сережка.
— От всего, что было. От нашего. Ты, наверное, готовясь в дорогу, уже и комсомольский билет порвал?
— Что? — остолбенел Ильевский. — Не смей со мной так разговаривать, Ляля! Не смей!..
Нервным движением он резко отвернулся от нее и снова остановился у окна. Ветер гонял по улицам листву. Низко над городом катились серые валуны туч.
Сережка стоял, ссутулившись, и обиженно молчал, не поворачиваясь к Ляле. Она встала и пошла к нему, Ласково положила руки ему на плечи, заглянула в лицо юноше. Глаза его были полны слез.
— Когда ты это написал, Сережа?
— Сегодня, когда жернова крутил…
— Я не все сказала. Кое-что вызывает возражения, но поэзия все-таки чувствуется. Тебе этого достаточно? — Она снова заглянула ему в лицо.
— Не смотри на меня, Ляля. Сядь. А то, когда стоишь рядом, ты всегда смотришь на меня с высоты своего роста, — сказал Сережка. — Меня это угнетает.
Ляля, усмехнувшись, отошла к столу.
— Куда же ты все-таки хочешь бежать, Сережка? — спросила она немного погодя.
— Сам не знаю, — откровенно сказал хлопец. — Бывает вот такое… Бросил бы, кажется, все да и пошел бы в люди, как Тиль Уленшпигель… С птицей на плече и с песней на устах… Развлекал бы их в горе, поддерживал бы… Потому что так, как сейчас, — невозможно. Задохнусь.
— К людям хорошо, но уйдешь от людей, Сережка, — сказала девушка грустно, — неминуемо заблудишься. Я сама сегодня чуть было не заблудилась, — призналась она. — И где бы ты думал? В Полтаве. В нашей Полтаве, Сережка!.. Будто попала в совершенно незнакомый мрачный город. Иду мимо бараков, — знаешь, где склады были перед войной, — смотрю, обносят их колючей проволокой, в три ряда. Вышки уже стоят. Видимо, будет концлагерь. Просто удивительно, когда они успевают. Будто за одну ночь.
— Мастера. Набили руку.
— Прохожу мимо детской поликлиники, гляжу — тоже обводят проволокой. Вывеска: кригслазарет… Можно ждать, что, проснувшись завтра утром, увидишь, как весь город уже опутан колючей проволокой.
На лице Сережки появилась болезненная гримаса.
— Все-таки я прав, Ляля, — доверчиво прошептал он. — Давай бежать! Скорее бежать, Ляля! Пропадем.
— Куда, Сережка?
— Куда? Известно куда. К фронту, к нашим!..
Ляля задумалась.
— Хорошо, — сказала она после паузы. — Мы убежим, спасемся. А другие? Ведь все не могут убежать?
Ильевский не нашелся, что ответить.
— Ты говоришь, «к фронту». А дальше что?
— Вступим в армию и будем воевать.
— Воевать… Воевать можно всюду, Сережка. А где воюют — там и фронт. Разве бойцы гоняются за фронтом? Они сами его создают.
— Все это так, Ляля. Но не забывай одну вещь. Кончится война, и найдутся люди, которые всегда косо будут смотреть на таких, как мы. Скажут: они оставались у немцев, они жили под немцами.
— Кто так скажет? — вспыхнула неожиданно Ляля, будто Сережка тронул ее самую больную струну. — Бездушный ханжа будет, кто так скажет… Но не будет, не будет этого, Сережка. Правду о нас скажут наши поступки и наше поведение!..
Она умолкла, не на шутку разволновавшись. Сергей стоял у окна, покусывая губы. Воронье черной тучей кружилось над домами и садами.
— В конце концов, главное не то, где ты будешь, — немного успокоившись, продолжала свою мысль Ляля. — Главное — что ты будешь делать. Нужно, чтобы под оккупантами горела земля. Издали жечь трудно. Жечь ее нужно здесь.
— Я тоже об этом думал, Ляля.
— Думал? Это хорошо. Собственно, тут долго и думать нечего. Нужно начинать действовать, Сережка… Скажи мне, где тот танкист?
— Какой танкист?
— Разве ты не знаешь? Тот, который горел. Которого Власьевна с твоей матерью от огня спасли.
— А, Леня! — просиял Сережка. — Он уже работает. Устроился слесарем на заводе «Металл».
— Ты с ним говорил? Что за парень?
— Кремень парень, — сказал Сережка. — Наш человек, советский.
— Видишь, и впрямь выходит, что одно только местопребывание еще не изменяет человека, его внутреннее содержание, — сказала девушка. — Выходит, что духовную его структуру, внутреннюю сущность не втиснешь в паспорт и в место прописки!
— Конечно, — согласился Сережка. — Это не только прописка. Это каждое дыхание. За Леню я уверен, что, кинь его хоть на Марс, он и там будет нашим.
— Когда ты нас познакомишь?
— Хотя бы и сегодня. С работы он возвращается после пяти.
— Где соберемся?
— Можно у меня.
— Хорошо. Начнем с этого…
Они принялись советоваться, все больше и больше воодушевляясь в предчувствии серьезной работы. И постепенно без следа исчезло неприятное ощущение неловкости, чувство моральной подавленности, которое наполняло обоих в первые минуты сегодняшней встречи.
Когда Ляля, собравшись уже домой, вышла на кухню, она вся сияла, раскрасневшись, как это бывало раньше.
— Чему это вы так обрадовались? — удивленно спросила Ильевская. — Не иначе поссорились и помирились?
— В шахматы играли, — весело сказал Сережка. Раньше, когда заходила Ляля, они непременно садились за шахматную доску сыграть несколько партий.
— В шахматы? — сурово спросила Ильевская. — А это чьи же шахматы?
Она указала под стол. Там лежала запыленная шахматная доска. Сергей смутился.
— Эх ты! — укоризненно покачала головой Ильевская.
— Прости, мама, за неправду. Мы просто… душу отводили, — сказал Сережка честно.
VII
В воскресенье по Пушкинской улице Лялю вел под руку высокий юноша. Ляля все время смеялась, юноша, наверное, развлекал ее какими-то шутками. Он был в простых армейских сапогах, в куцей, будто подрезанной шинели, в танкистском шлеме. Если бы кто-нибудь потребовал у него документы, он без суеты и волнения показал бы удостоверение на имя Ивана Адриановича Пархоменко, слесаря завода «Металл». И если бы на самом заводе «Металл», который немцы решили приспособить под свою прифронтовую мастерскую, спросили у старых рабочих-полтавчан об Иване Пархоменко, они дружно подтвердили бы, что действительно хорошо знают этого светловолосого парня, сына Марии Власьевны Пархоменко. Знают, леший бы его взял, изрядно насолил он им, мастерам, еще будучи фабзайцем, а теперь вот снова откуда-то свалился на их голову. Так бы они ответили…