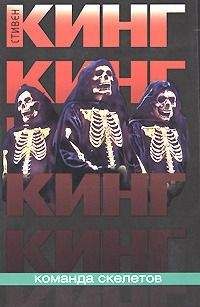Отар Чиладзе - Железный театр
На сайте mybooks.club вы можете бесплатно читать книги онлайн без регистрации, включая Отар Чиладзе - Железный театр. Жанр: Советская классическая проза издательство -,. Доступна полная версия книги с кратким содержанием для предварительного ознакомления, аннотацией (предисловием), рецензиями от других читателей и их экспертным мнением.
Кроме того, на сайте mybooks.club вы найдете множество новинок, которые стоит прочитать.

Отар Чиладзе - Железный театр краткое содержание
Железный театр читать онлайн бесплатно
Зрительный зал представлял собой огромную зияющую яму. На дне ямы валялись лопаты и заступы. Из боковых лож торчали концы досок разобранного пола с наросшей на них землей. Погашенная люстра струила мрак над ямой, как бы вырытой специально для того, чтобы поглотить ее, как могила — гроб. Люди подставляли друг другу руки, сталкивались, спотыкались и, смеясь, чертыхаясь и бранясь, размещались на дне постепенно заполнявшейся ямы. Женщины вскрикивали, хватались за спутников; им было труднее спускаться в провал — мешали длинные платья, — но они не забывали о кокетстве и старались как можно изящнее спрыгнуть в глубину, опершись на подставленную снизу руку. Из-под платьев, подобранных в силу необходимости, на миг показывались порой пленительно стройные, а порой толстые, с пухлыми как тесто, бесформенными икрами ноги. Пахло прелью и сыростью. В воздухе летали клочья паутины. Словно огромные пестрые бабочки, парили, покачиваясь, веера, но духота все возрастала; спертый, тяжелый воздух пропитывался запахом пота, и все труднее становилось сдерживаться, соблюдать правила вежливости, держаться в рамках приличия; то и дело вспыхивали перебранки, раздраженные, озлобленные люди сердито накидывались друг на друга, хотя, собственно говоря, сердиться им следовало лишь на самих себя: по собственной вине попали они в столь глупое, смешное положение. Но раз уж попали, то каждый хотел, чтобы в таком же положении оказалось как можно больше людей, и они теснились, чтобы дать место другим, чтобы в зале очутились все, кто толпились перед театром, или нет — весь город, вся Грузия, вся империя, все человечество. Над ямой виднелись лишь головы стоящих в ней «зрителей». А яма многоголосо роптала: «Что с нами сделали, смотрите — заживо похоронили, да притом с нашего же согласия!» Смеркалось — и театр постепенно погружался во мрак. Как-то не сразу заметили, что ни в зале (точнее — в яме), ни на сцене не было света. «Свет! Свет!» — послышались с разных сторон встревоженные голоса. Потом вся яма дружно и долго голосила: «Свет! Свет! Све-ет!» — пока не раздвинулся с шумом и шорохом незримый занавес — словно разодралась завеса тьмы — и не выплыло на сцену колеблющееся пламя свечи. Яма затихла. Внезапно наступила нетерпеливая, полная ожидания тишина. Пламя остановилось у переднего края сцены, разгорелось ярче и озарило молчаливое, нахмуренное лицо тбилисского артиста. Яма терпеливо ждала, но наконец не выдержала ожидания и выкрикнула: «Ну, что еще скажете?» — и сама засмеялась своему вопросу. Но лицо тбилисского артиста, поскольку виднелось только его лицо, тускло озаренное свечой, даже не пошевелилось; оно все так же упорно молчало — и яма снова затихла, так как ей в самом деле было необычайно любопытно, что же скажет ей нового этот бестолковый человек. «Ничего утешительного не могу сообщить, господа, — выговорило наконец лицо тбилисского артиста. — Свет нам выключили. А в театре не оказалось достаточного запаса свечей. Но, к счастью, голос слышен и в темноте, — он криво, как-то нехотя, принужденно, словно передразнивая кого-то, улыбнулся. — Так что, если ничего не имеете против, мы можем играть и без света». «Да ты в своем уме?» — грубо оборвала его яма. «Мое учение — не мое, а пославшего меня», — еще более жалостно улыбнулось лицо тбилисского артиста. Казалось, ему трудно говорить и он сам не вполне отдает себе отчет в своих словах: словно его жжет пламя свечи и он бредит от боли. «Кто тебя послал, нам на беду?» — желчно отозвалась яма. «Вы! — воскликнуло вдруг лицо тбилисского актера. — Вы!» — повторил он так твердо и упрямо, что яма довольно долго молчала, не зная, что ответить. Димитрий весь напрягся и почувствовал, как вспотела у него спина. Он стоял одной ногой на рукоятке лопаты, нога поминутно соскальзывала, и он изо всех сил крепился, чтобы не пошатнуться, потому что на руке у него висела Дарья и он боялся лишить ее опоры. Он не видел Дарьи, как и она его, в кромешной тьме, но оба чувствовали друг друга, оба все равно составляли одно и помогали друг другу сохранять равновесие в этом хаосе нелепости. Они были как корабль и якорь; вернее, каждый из них был и кораблем, и якорем — кораблем для себя и якорем для товарища. Корабль и якорь. Якорь и корабль. Якорь лежит на дне, зарывшись в песок; корабль покачивается на поверхности моря. Они не видят друг друга, между ними — целая стихия, и все же они — одно, они вместе, они связаны цепью… Не дай бог, чтобы цепь порвалась, — тогда якорь останется навеки на дне, в песке, а корабль будет до скончания дней метаться из стороны в сторону в безбрежном океане. Не дай бог! Так что, до той минуты, когда на сцене возникло лицо тбилисского артиста, у Димитрия еще оставалась надежда, что администрация театра примет какие-то экстренные меры и вызволит собравшихся из смешного и нелепого положения. С Дарьей он не решался даже заговорить — ведь только по его вине попала Дарья во всю эту дурацкую передрягу. И Димитрий терпеливо ждал и зачем-то старался запомнить отдельные слова, вырывавшиеся из однообразного, бессмысленного, одуряющего гула, чтобы потом повторить их в уме от первого до последнего — не для проверки своей памяти, а в отместку себе за то, что он поддался соблазну и впутался в эту навязанную ему вздорную историю. «Депутат. Милостивец. Правительница. Государю. Гурийцы. Из Парижа. Актрисы. До слез…» — повторял он без конца упрямо, вызывающе, со злостью. На бессмыслицу отвечал бессмыслицей и к тому же как-то занимал себя, заполнял пустое время. Но когда слабое пламя свечи выхватило из мрака лицо тбилисского артиста, у него сразу пропало всякое желание занимать или развлекать себя. Никогда не видел он подобного лица (настолько не казалось оно земным). Это было как бы не человеческое лицо, а самопроизвольно явившееся в царстве мрака, уплотненное ледяными его силами небесное тело из таинственных, непостижимых и недоступных миров и, однако, включавшее в себя человеческую боль, человеческие слабости и человеческие стремления, а потому одновременно наводившее ужас и внушавшее жалость. И Димитрий поспешно отвел взгляд; он не желал видеть это лицо и слышать исходивший от него голос. Он вертел головой в разные стороны, напряженно вглядываясь в чуть брезжившие во мраке лица и силясь узнать хоть кого-нибудь. Впрочем, он это делал только для того, чтобы не слушать тбилисского артиста. Он знал наперед, чутьем, что тот скажет, что скажет его лицо, столь непохожее на земное. «Вот почему разобрали сегодня в театре пол, вот почему не дали нам света», — говорило лицо тбилисского артиста. А Димитрий наклонился к жене, отыскал губами во мраке ее ухо, шепнул: «Тут сзади за нами стоит Саба Лапачи». Впрочем, он не был уверен, что видел Лапачи, — просто в темноте мелькнули на миг офицерские погоны. Но ведь это мог быть и Давид Клдиашвили? Или кто-нибудь еще из офицеров-грузин, мало ли их служит в Батуми! «Если это Клдиашвили, то он завтра же непременно вызовет на дуэль владельца театра, — продолжал Димитрий в уме. — Он тоже в любую минуту готов ринуться в бой. И что из этого может выйти? Да ничего не выйдет. В наши дни, даже если догадываешься о чем-нибудь, если что и понимаешь, лучше держать язык за зубами, не то… не то могут и прикончить в постели. Заснешь героем, а проснешься мертвецом… То есть именно и не проснешься. Прощай, «небес бирюза, лесов изумруд»! А если так, то, стало быть, знание — зло, — сказал он себе, злорадствуя, вернее, вызывая себя на открытое признание того, что давно уже хотел открыто сказать. — Вот именно! Если не знать, к чему применить наше знание. Или прикажете считать все это за добро?» — повел он, не глядя, головой в сторону сцены. «Целое столетие томимся мы в яме, господа. Покрылись плесенью. Рассыпались прахом…» — доносился оттуда голос тбилисского артиста. «В яме стоим мы. А вы изволите находиться на сцене», — возразила яма и рассмеялась так громогласно, что даже окутанная мраком люстра под потолком закачалась и зазвенела. Как же ненавидел в эту минуту Димитрий тбилисского артиста! Впервые в жизни ощутил он в эту минуту ненависть, понял ее суть и, будь это возможно, мог бы, наверно, сейчас выразить словами это чувство во всей его противоречивости. Но не успел Димитрий додумать до конца свою мысль, как тбилисский артист рванулся со сцены вперед и прыгнул в яму. Свеча в руках у него погасла. Несколько мгновений все в яме молчали, словно утопленники на дне, но потом вдруг поднялся немолчный гомон, все разом заговорили, заголосили, забубнили, закричали… Разгоряченные, потные тела терлись друг о друга, стиснутые, смешавшиеся в одну кучу. Казалось, пламя свечи было той последней ниточкой, которая еще связывала всех этих людей с внешним миром, благодаря которой они сохраняли ощущение пространства и времени, а заодно и самоуважение и уважение друг к другу; но стоило этой последней надежде исчезнуть, угаснуть, как они почувствовали себя оторванными и от пространства и времени, и друг от друга, и от самих себя. Этот душный мрак, в котором запах пота мешался с затхлостью и ароматами духов, отнимал у всех в равной мере способность к здравому суждению. Роившиеся, как куча червей, перемешанные, перетертые вместе, они составляли как бы одно многоголовое существо с бесчисленными конечностями, которое поглотило тбилисского артиста и, чувствуя непривычную тяжесть в чреве, с одной стороны, хотело бы изрыгнуть его обратно, а с другой стороны — было благодарно за этот неожиданный подарок судьбы. И оно по-прежнему бормотало, выло, вздыхало, стонало. У каждого чесался язык сказать что-нибудь грязное, непристойное, похабное, и никто не думал сдерживаться. Пьяный извозчик, наслушавшись этого сквернословия, протрезвел бы если не от стыда, то от изумления. А там, во мраке, ничего уже не стыдились, словно и в самом деле весь мир ограничивался этой ямой; словно здесь они родились и здесь предстояло им испустить последний вздох, словно, невидимые, они и вовсе не существовали; словно никогда больше не мог загореться свет и словно они, вернувшись в дневной мир, никогда не вспомнили бы с неприятным чувством обо всем пережитом в этом гнетущем мраке. С какой-то женщины сорвали ожерелье. На другой разодрали платье. Еще одна упала в обморок. Но по справедливости надо сказать также, что, каким бы отвратительным, диким, оскорбительным ни было это, проведенное во тьме и давке время, как бы ни унизило оно стоявших в яме людей, одно благое дело все же совершилось: постепенно, хотя, быть может, туманно, слабо, а то и бессознательно, ямой овладевало обнадеживающее чувство однородности, способности одинаково воспринимать любое явление, или событие, или желание. Поступок тбилисского артиста сперва, правда, озадачил и смутил яму, как мог бы брошенный в лужу камень замутить воду, но яма тут же поняла, что это был последний, отчаянный шаг потерпевшего поражение человека, а не актерский прием, не трезво обдуманная выходка с целью раздразнить толпу или завоевать ее сочувствие. Тбилисский артист попросту искал убежища в яме, как бездомный беженец — в монастыре, и теперь уже лишь от монастыря зависела его судьба, лишь добрая воля покровителя решала, разгневаться на ищущего покровительства за то, что он постучался именно в его дверь, или принять беглеца под свою защиту, — как и поступила яма, потому что, собственно говоря, защищая тбилисского артиста, она защищала самое себя, поскольку он уже затерялся в ее душном, потном лоне, и, хочешь не хочешь, независимо от степени установленного с ним взаимопонимания, яма вынуждена была считать его собственной своей частью: он разделял общую судьбу, погруженный вместе со всеми в непроглядный мрак. Но гнев ямы от этого отнюдь не умерился — ни на кого теперь не направленный, он оказался совсем уже неодолимым. Яма волновалась, роптала, гудела, и бог весть что могло случиться, если б не получило выхода, и притом возможно скорее, ее негодование. Дело было теперь уже не в отмененном спектакле и не в потерянном времени или потерянных деньгах. Время шло, театр тонул во мраке, никто, казалось, не заботился дать свет, никто не собирался помочь людям выбраться на свет божий. «Театр у нас такой, какого мы стоим!», «Что посеяли, то и пожинаем!» — слышались язвительные голоса. Но когда зажегся свет и на сцену в сопровождении владельца театра ворвался, словно кого-то преследуя, полицмейстер, яма подняла адский свист, шум и грохот, — видно, театр и в самом деле был железным, раз он устоял и не развалился на части. Все свое раздражение, всю свою ярость, излившуюся в бешеных криках и свистках, яма обрушила на полицмейстера. Видимо, не ожидавший столь шумного приема полицмейстер сперва невольно отшатнулся, но быстро справился с собой и, изобразив на лице благодарную улыбку, почтительно склонился перед ямой. Он продолжал кланяться направо и налево, пока яма не успокоилась; при этом он все время одергивал на себе мундир, словно тот стал ему внезапно короток. Яма свистела, ревела, но наконец любопытство взяло верх над яростью, и шум понемногу унялся: яма затихла, превратилась в слух. Казалось, началось долгожданное представление, и перед ними был не настоящий полицмейстер, а актер, играющий эту роль. Наконец полицмейстер собрался заговорить, но только открыл рот, как сразу, то ли не соразмерив голоса, то ли поперхнувшись, закашлялся. Владелец театра бросился за водой, а у полицмейстера улыбка не сходила с лица; он все кашлял и улыбался. Владелец театра побежал за кулисы почему-то на цыпочках, словно боясь разбудить уснувшую, успокоившуюся наконец яму. Яма расхохоталась. Полицмейстер тоже засмеялся и показал пальцем на владельца театра — дескать, смотрите, как забавно он бежит. Он смеялся и кашлял одновременно — то ли это был кашель, похожий на смех, то ли смех, похожий на кашель. Владелец театра вернулся так быстро, что казалось, он наперед знал о предстоящем приступе кашля у полицмейстера, что все было заранее предусмотрено и за кулисами стоял наготове человек со стаканом воды. Возвращался владелец театра так же, как уходил, — бегом и на цыпочках, скосив глаза с растерянной улыбкой в сторону ямы и проливая воду из стакана. И это, казалось, было заранее рассчитано — чтобы показать яме, что стакан в самом деле полон воды. Яма снова рассмеялась. Послышались аплодисменты. Полицмейстер отпил из стакана, перевел дух (пил он, повернувшись спиной к залу) и сперва вернул стакан владельцу театра, а потом, вместо того чтобы сказать спасибо, погрозил ему пальцем, как бы возлагая на него (или на его театр) вину за свой столь несвоевременный приступ кашля. Эта немая сцена также поправилась яме, и она опять разразилась смехом. Полицмейстер еще раз поклонился, еще раз прокашлялся, готовясь говорить, устремил взгляд на люстру и сложил руки пониже живота, как будто был гол и прикрывал срамные части. «Не бойся, Иосиф», — шутливо бросила ему яма. Но полицмейстер не обратил внимания на эту неуместную реплику; он смотрел на люстру, чтобы не потерять нить своих мыслей, и говорил, говорил, говорил — как ему неприятно, как он не находит слов, чтобы высказать свое огорчение по поводу этого печального и совершенно неприличного недоразумения, не находит слов не только как человек, стоящий на службе общества, но и как обыкновенный, рядовой гражданин, который не меньше, чем кто-либо другой, любит и почитает театр, и который (между прочим) считает всеобщим благом и к тому же своей личной заслугой то, что в Батуми имеется «столь необходимое и важное для духовной жизни общества учреждение» и что поэтому было бы чрезвычайной несправедливостью считать его (неужели кому-нибудь может прийти это в голову?) из-за какой-то несчастной случайности врагом театра, — такая несправедливость опечалила бы его больше, чем неблагодарность со стороны собственных детей. «Где дерево, там и топор!» — крикнул ему кто-то из ямы, но полицмейстер и на этот раз не попался на удочку — подумал было мельком, на всякий случай, что кричавший, конечно, из Барцханы, — и как ни в чем не бывало продолжал свою длинную и сбивчивую речь. В конце концов у него получилось — или так это поняла яма, — будто владелец театра давно уже собирался, опять-таки в интересах зрителей, перебрать полы в театре, но что занялся этим сейчас, не согласовав ни с полицмейстером, ни с тбилисским артистом.
Похожие книги на "Железный театр", Отар Чиладзе
Отар Чиладзе читать все книги автора по порядку
Отар Чиладзе - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mybooks.club.