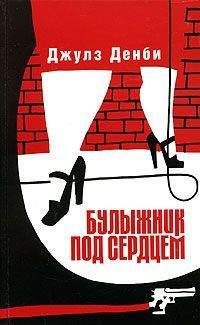Сердито и грубо понукая Маньку, он вывел ее во двор, легко взметнулся в седло и хлестко саданул ладонью по крупу. Манька присела и с места затрусила рысцой. «А пусть Апостол с преподобной Василисой думают что хотят! Чего нам амонии разводить!» — в злом отчаянии оправдывал себя.
Манька медленно движется по грязной и скользкой обочине узкого Ярославского шоссе. Ей, конечно, хочется идти по твердой ровной дороге, но там сзади и спереди бешено несутся ненавистные ей существа: не то дома на колесах, не то телеги с домами. Она давно поняла, что они — ее кровные враги, завоевавшие любовь людей. И знает, что бесполезно с ними бороться, потому что они во много раз сильнее лошадей.
Манька осторожно прядает ушами, косит тоскливым глазом, особенно тогда, когда слышит далеко сзади урчание, погромыхивание, а потом со страшным шумом совсем рядом пролетают эти уродливые и вонючие существа. Манька знает, что не будь на ней этого человека по прозвищу Иван, который иногда бывает зол и сердит и очень несправедлив к ней, то эти самоходные телеги или дома наверняка набросились бы на нее, особенно сзади, она бы и взбрыкнуть не успела. Но с ним они не тронут ее. В этом она уверена. А потому покорно шагает по обочине, неся его на себе.
По собственной воле Манька никогда бы не отправилась на шоссе. Ей нравятся вольные полевые просторы и даже неудобные лесные тропы. Там она все знает, чувствует и понимает. А главное — там редки ее торжествующие враги. Если они и встречаются, то ведут себя смирно, никогда ей не угрожают. В полях и лесах они не умеют быстро бегать. Там они движутся даже медленнее ее, старой кобылы, особенно в распутицу, и всегда застревают, беспомощно жужжа колесами, как глупые шмели. В полях и лесах Манька их не боится и относится к ним равнодушно.
В Манькиной жизни было несколько хозяев. В последние годы сразу два — Константин Васильевич и Иван, и она так и не знает, кто из них главный. Но сама она больше привязана вот к этому, который сидит у нее на спине. Потому что он лучше всех понимает ее и умеет с ней разговаривать. Он может часами оставаться в ее стойле, гладить ее, чистить и мыть теплой водой. Он почти каждый раз приносит ей вкусное — сахар или кусочек хлеба. Иногда он рассказывает ей о себе, про человеческую жизнь. И хотя Манька ничего не понимает в человеческой жизни, она тычется губами в его руки, жалеет его. Однажды она даже тоненько ржала, когда он заплакал. Она хотела показать ему, как ей его жалко. Иван ведь такой же несчастный и одинокий, как и она сама.
Манька всегда радуется, когда Иван, а не скучный и молчаливый Константин Васильевич, седлает ее, чтобы куда-то ехать. Она любит с ним путешествовать. И сейчас она знает, куда они едут, — в Давыдково. Там живет ласковая девочка по прозвищу Настёнка. Она обязательно будет угощать ее конфетами. Маньке нравится бывать в Давыдкове, но только быстрее, думает она, кончилась бы эта ужасная дорога с этими вонючими, безмозглыми существами, несущимися беспрерывно и туда и сюда.
Шоссе пошло на длинный прямой подъем вдоль золотисто-зеленого сосняка, и впереди, на самом гребне, величественно возвышался огромный белый собор. Манька знала, что за собором они свернут направо и каменистая дорога станет спокойной, хоть и с рытвинами, и тогда она даже сможет побежать трусцой до самой колокольни, что в центре Давыдкова. Но в гору по склизкой грязи ей было идти тяжко, и она задрала голову, вопросительно кося на Ивана глазом.
— Ну что тебе, Манька? Тяжело? — понимающе спрашивает он и умело, быстро соскакивает на землю.
Он идет по кромке асфальта, ведя ее в поводу. Манька подвигается уверенно и энергично, даже обгоняя Ивана, натягивает повод, как бы подсказывая: давай-ка побыстрее взберемся к собору, а уж там я постараюсь. Иван топочет сапогами по асфальту, глядя себе под ноги, и не обращает никакого внимания на проносящиеся мимо машины. Ему все равно: пусть хоть давят! Он ни о чем не думает. Только одна мысль и застряла в голове: «Что ж делать-то теперь?»
Он слышит, как стремительно прошуршали шины легковой машины, видит, как впереди резко тормозит черная, сверкающая на солнце «Волга» и круто сворачивает на обочину, преградив ему с Манькой путь. Он оборачивается — нет ли сзади машин? — всматривается, шагая боком, слышит:
— Здравствуй, Иван.
Он остолбенел. Перед ним у черной «Волги» стоит Петр, одетый в темно-серый костюм и голубую водолазку. Высокий — на полголовы выше Ивана, светловолосый, стройный. Красивый, как мать. И значительно моложе своих тридцати девяти лет.
Петр со скептической улыбкой разглядывает брата. В прищуренных холодноватых глазах — ирония.
Иван так и стоит — растерянный, онемевший. Ему стыдно за себя — за свою телогрейку, сапоги, трехдневную щетину. И даже за Маньку — старую клячу. Вообще за всю свою неудачливую жизнь. Жаль только ему, что сорвался план встретить Петьку с достоинством. И конечно, не восхищаться его успехами, подобно Светке, а кое-что самому сказать. Из того, о чем он думает, — про нынешнюю деревенскую жизнь, про Семку Пантыкина и вообще. Обидно, что все теперь переиначивается. «Но что поделаешь?» — думает грустно Иван. — Вечно все не так». Из машины вылез неуклюжий, коротконогий шофер — в плаще и шляпе. Он приземист, с щекастым лицом, толстый. Взглянув снисходительно на Ивана, принимается тщательно протирать стекла, ходя вокруг «Волги» враскачку, как дрессированный медведь.
— Вижу, Иван, ты не рад встрече, — говорит Петр.
— А значит, неожиданно, — выдыхает Иван. И тут же без робости, даже с вызовом заявляет: — Ты вот что, Петька: в избу за картошкой приезжай попозднее. Часика через два. У меня, стал быть, дела. Я вот с ней, — Иван кивает на Маньку, — смотаюсь в Давыдково, а потом возвернусь. Вот тогда ты и подваливай. Мешка два дам.
— За какой картошкой? — удивляется Петр, продолжая мирно, со снисходительной улыбкой разглядывать брата.
— Как — за какой? — не понимает Иван. — За моей. У Семки-то в совхозе не уродилась.
— А мне не нужна ни твоя, ни его картошка, — пожимает плечами Петр.
— Чего ж тогда Светка вчерась прибегала? — досадливо спрашивает Иван. — Звонишь им по телефону, а теперь не нужна.
Петр недоуменно разводит руками:
— Не понимаю, что у вас здесь происходит?
— А ничего не происходит! — сердится Иван. — Только твой дружок Семка задумал сносить деревню и ставить город. Как в Москве хочет жить!
— Ну и что ж здесь плохого? — опять недоумевает Петр, не понимая Ивановой логики.
— А ничего хорошего! Ты хоть напоследок загляни в родительскую избу. Все вы теперь в начальники выбились. А ты в избу загляни! Забыл, трын-трава, как сопливым по лавке ползал?! И все хныкали с Гришкой: «Ивань, дай калтошки! Хлебца дай! Аблочко дай!» А теперь, значит, сытые, трын-трава!
— Что с тобой, Иван? — досадливо произносит Петр и оглядывается на шофера, который невозмутимо трет стекла, делая вид, что ничего не слышит.
— Ты, Петька, и к матери на кладбище съезди, — требует Иван. — И к отчиму своему, к Болдыреву, который вам с Гришкой свою фамилию дал и в люди вывел. Поклонись им. А то… того… зазнались, трын-трава!
— Ну что с тобой, Иван? Ну что ты так? Обо всем как-то сразу, — примирительно говорит Петр. И в его словах, в голосе, на лице уже нет и капли той снисходительности, иронии, а тем более высокомерия, которые были первоначально. Наоборот, появились смущение, растерянность, подчинительность, то давнее и почти забытое, что всегда существовало и у него, и у Гришки по отношению к старшему брату.
А Иван командует:
— Ты вот, значит, что, Петька. Езжай сначала к Семке Пантыкину. Значит, шефствуй над ним. Потом на кладбище. А уж апосля ко мне. Понял? А то у меня дела. Вот освобожусь, тогда и встренемся. А пока, значит, до свиданьица.
Иван уверенно взбирается на сонную кобылу, поддает ей решительно каблуками под брюхо, чтобы веселее трогала. Манька недовольна, обиженно мотает головой, но берет с места бодро. Она с безразличием и презрением обходит «черный домик» и его двух хозяев, которых громко ругал Иван. И уже натужно тянет в гору, к вершине, где белокаменный собор, чтобы около него наконец свернуть на тихую и короткую дорогу в желанное Давыдково.
Наталья обрадовалась приезду Ивана, но особенно ее девчушка:
— Ой, дядя Ваня! А Манька где? — и бросилась во двор.
Наталья засуетилась:
— Ну чего в дверях стоишь? Проходи!
— Натопчу я.
— Да, что ли, не уберу? Есть хочешь?
— Петьку встретил. Начальник! А шофер у него важный и в шляпе. Ходит как медведь. Ему бы сзади барином восседать, а Петьке — впереди, за рулем.
— А у нас вчерась собранье было. Директор говорит: завтра шеф приезжает — Петр Михайлович Болдырев. А меня кто за язык дернул: не Ивана ли Окурова братан? А он мне: да, да, твоего любезного саботажника. Чего это он так, Вань, озлоблен-то на тебя?