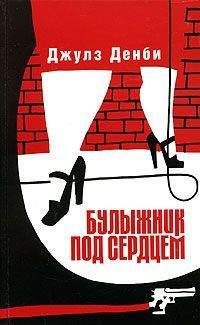Иван видит, как подкашиваются у матери ноги, как она, медленно обернувшись вокруг себя, ничком валится набок. Пантыкина в страхе, с жутким воплем на крыльцо:
— Дуську Окурову удар хватил! Ой, люди добрые! Господи!..
Прибежали соседи. Мать подняли, на кровать отнесли; Иванёк помогал. Кто-то из баб к груди ухом: слава богу, сердце бьется. Пока ждали фельдшерицу из Успенья, старая Очканя пошептала молитвы. Но помогло мокрое полотенце: мать очнулась. Был обморок. В доме долго оставались бабы, все судачили о случившемся. И сразу разошлись, когда появился Болдырев Панкрат Григорьевич, председатель колхоза. Он в сорок пятом сменил Петракова: того выдвинули в район, председателем потребкооперации…
Иванёк не любил Болдырева. Всегда смотрел на него как волчонок — искоса и затравленно. Он догадывался, что у того отношения с матерью; осуждал мать, но молчал. В доме все переменилось, как стал тот захаживать. Мать совсем отдалилась от старшего сына, все чаще раздражалась против него. А куда было Иваньку деться? Ох как бы он отомстил Болдыреву, если бы мать попросила! Но мать только ругала Иванька и постоянно обзывала «проклятым волчонком», и он все сильнее ожесточался против Панкрата Григорьевича. Все вызывало у него злобу, особенно внешность Болдырева.
Панкрат Григорьевич был невысок — ниже матери, но крепок, с квадратной грудью, большеголовый. Лицом — сумрачно-насупленный, с густыми бровями, которые кустились на узком маленьком лбу, почти доставая до седого ежика волос. Панкрат Григорьевич воевал, хотя ему было за пятьдесят; демобилизовался по ранению. Его пустой дом находился в Давыдкове: жена умерла, когда он был на фронте, их единственного сына убили под Сталинградом. Председатель-вдовец был известен на всю округу. И молодые девки, не задумываясь, пошли бы за него замуж. Но он настырно, как дикий кабан, отбрасывая всякие пересуды, пёр на Евдокию Окурову, хоть и худа, и померкла, да и три рта в довесок. В августе того года она родила ему Светку…
Новое совхозное кладбище было не так далеко от церковного взгорья, но уже за рекой, чуть в стороне от Успенья, почти примыкая к лесу. Иван с вздорным упрямством ни разу туда не захаживал. Обиды на мать с отчимом не утихали в нем. Так он и жил в непримиримости, хотя не однажды возникало быстрое желание навестить родительницу. Теперь, на могилке деда Большухина, наконец-то решился сходить к ней. Шел с душевным облегчением, но и с тревогой: что-то пугало его. На мосту через Шохру остановился. Долго смотрел на три живые избы в Успенье, курившие прозрачным сероватым дымком. Все же продолжил путь: по узкой вертлявой тропинке, вдоль крайних покинутых изб, к лесной опушке с несколькими корабельными соснами и дальше к березово-осиновому острову в пологой полевой низине, где и находилось кладбище.
Иван со странным удивлением заметил, что многие пирамидки завершаются не звездами, а крестами. В нем вспыхнуло нетерпеливое любопытство: а как же у матери с отчимом?
Он предполагал, что их могилы должны быть в начале кладбища: Панкрат Григорьевич умер в пятьдесят девятом году, вскоре после того, как вынужден был оставить колхозное председательство и уйти на пенсию, — в том году из мелких колхозов как раз и был создан совхоз «Давыдковский».
Он узнал их место сразу, вернее догадался: стояла высокая черная ограда с золотыми шарами на углах, охватившая большой кусок кладбищенской земли — на несколько могил. Иван с неприязнью подумал: «Светка старается. Чтобы даже здесь побольше, чем у других. А для кого запасается? Для себя, что ли, с Николаем? Ну и Светка!»
Две могилы в большом огороженном пространстве казались маленькими; им явно было неуютно и одиноко. Над холмиками с засохшими цветами и травой возвышались две одинаковые беломраморные пирамидки. Одну из них, Панкрата Григорьевича, завершала никелированная звезда; другую, материну, — никелированный крест. «Вроде бы и верующей никогда не была», — подумал Иван. А вот звезде над фарфоровым портретом насупленного, как всегда, с суровым, въедливым взглядом Панкрата Григорьевича неожиданно для себя обрадовался. Нет, вечный колхозный председатель — а Панкрат Григорьевич им был почти тридцать лет, с самого начала коллективизации — не раскаивался в своих делах, не просил ни у кого снисхождения — ни у бога, ни у дьявола! И Иван впервые ощутил к нему уважение.
Мать же на овальной фотографии он такой и не помнил: совсем старушка, с худым морщинистым лицом, с усталыми, страдальческими глазами, в которых — и боль, и жалость, и беспокойство. А он ее всегда представлял молодой! Но и тут хоть старческое и измученное, а родное лицо. Ему становится стыдно, что только-то и увидел ее вновь на могильном портрете.
А не видел он мать ровно двадцать три года! С того осеннего дня, как провожали его в армию. Никогда и на письма не отвечал, все обида грызла. Вспомнилось, как мать приехала в райцентр, к военкомату; белый узелок с продуктами привезла, а сама такая печальная, все плакала. А он не ждал ее, и потому Нюрка Говорова из Успенья, материна младшая товарка, его сопровождала. А он был пьяный, едва соображал. На мать озлился: прогонял ее, ругался, отказался от узелка. И она ушла — молча, в слезах…
Со стыдом вспоминает Иван о том, каким приехал на похороны… Полез драться с Петькой. И не помнит, как хоронили, как справляли поминки. Помнит только, что орал: «Изба моя! Никому не отдам! Сам буду жить!» А изба никому и не нужна была. Ох как стыдно!
Опустив голову, побрел прочь.
А ведь могло быть все иначе, думает Иван, если бы тогда, в сорок седьмом, взяла его с собой в Давыдково, к Болдыреву. Но не взяла… Все помнит Иван: как суетилась, как глаза прятала, как врала: «Ты, Иванька, совсем ужо взрослый. Ты ужо сам все можешь. Жизнь ежели сложится, и тебя заберу. А пока оставайся. Избу-то стеречь надо, без присмотра ведь не бросишь…» А он молчал; он все понимал и ни о чем не просил. «Ты хоть бы словцо матери сказал!» Но нет, не сказал: «Ух, проклятый волчонок!..»
И остался Иван в неполных четырнадцать лет один-одинешенек. Сначала лютой ненавистью пылал к Панкрату Григорьевичу. Только и мечтал, как бы его подкараулить. Потом успокоился. Стала к нему Нюрка Говорова из Успенья наведываться, их, княжинская, — замуж туда вышла перед самой войной, да сразу и овдовела. Щи ему варила; потом он и сам научился. В то лето бросил он школу — в пятый класс перешел — и на равных со всеми начал вкалывать в колхозе. Работа ему больше по душе была. Так и началась самостоятельная житуха. А в ней все — трын-трава!
Иван стоит на мосту, облокотившись на перила, и завороженно смотрит на торопливую Шохру. Вода по-осеннему черная, с отраженным голубеньким небом, с багровыми отсветами разгорающегося светила. Тихо вокруг, лишь Шохра журчит, сердясь, у дубовых свай. И куда торопится их невеликая, деловито-быстрая Шохра? А куда торопиться ему? Повидать бы Гугина, поговорить, посоветоваться. Но нет желания шевельнуться, не то чтоб двигаться. Опустошенно-покойно на душе, устал он. Эх, жизнь, трын-трава…
Он улавливает далекий, едва различимый конский топот. «Гугин! Конечно, Гугин! На Маньке!.. Вот и показались!» Манька, как всегда, бредет нехотя, опустив голову. «Старая, конечно, — думает Иван. — А когда-то красивая была, красной масти, белобокая, в белых «чулках», с роскошной золотой гривой. Теперь, правда, масть поблекла, в седом инее, грива лохматится мочалом. Но все равно славная она, преданная…»
Гугин сидит на кобыле прямо, застыл, как генерал. Он давно уже жалуется на поясницу. Ивану радостно их видеть на родном проселке. Когда-то Тугариновы обсадили дорогу от усадьбы к церкви березами, ныне они черно-белые, с корявыми стволами в полтора обхвата, с бесконечной вислой паутиной в вершинах — как туннель. И вот едет по березовому туннелю белобородый Гугин! Иван закуривает, сладко затягивается, ждет.
Гугин — благообразный старик; ему за семьдесят. У него — узкое, болезненно-бледное лицо, обрамленное холеной седой бородой. Взгляд — устало-страдальческий, но пронзительный; голос — тихий. Не случайно в деревнях его прозвали Апостолом. Он действительно походит на сошедшего с фресок апостола Павла. К тому же Гугин всегда наполняет речь поучениями.
Иван знает, что когда-то, очень давно, Гугин учился в духовной семинарии, готовился стать священником, но почему-то не стал. Вообще его молодость окутана туманом, да и вся жизнь: где он был, что делал — мало кому известно в здешних краях. Сам же он о своем прошлом не откровенничает. Почти всех удивляет его редкая привязанность — уже пятнадцать лет! — к мелкой и малооплачиваемой должности лесника-смотрителя Успенских и Тугариновских лесов. Но княжинские старухи догадываются и почему он объявился здесь, и почему исправно служит в лесничестве: его властная дородная супруга, Василиса Антоновна, отсюда родом, тугариновская…