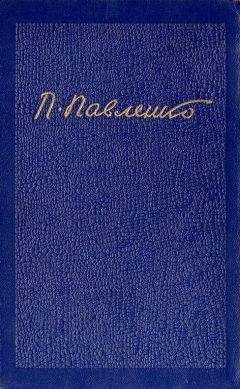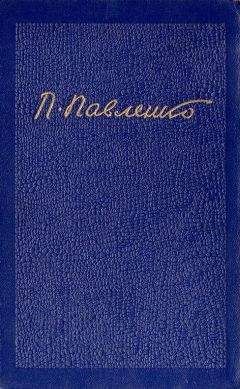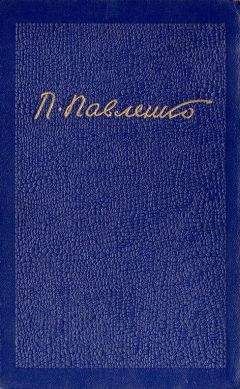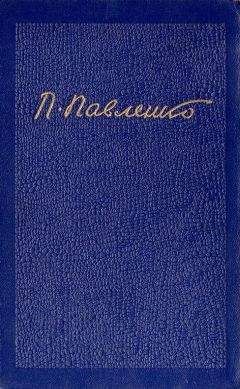В одну секунду баянист перепробовал несколько разных мотивов. Все они показались ему, очевидно, неподходящими, и тогда громко, отчаянно громко и вызывающе, он грянул «Гей, цыгане…»
Стреляя частыми очередями, похожими на азбуку Морзе, Малафеев бежал и пел, все время оглядываясь и маня певцов за собой. Кто-то стрелял еще, кроме Малафеева, но кто именно — актеры не видели.
Кольцо выстрелов, сжимаясь вокруг них все уже, вдруг как бы лопнуло. В воздухе образовалась некоторая полоса тишины. Малафеев свернул к ней, и скоро группа его наткнулась на бойцов второй роты. Несколько удивленные, те приветствовали артистов аплодисментами и криком.
Возбужденные бегом и опасностью, задыхаясь и отирая с лиц обильный пот, артисты все еще пели, и баян, вторя им, заливался первой птицей этого тревожного раннего рассвета.
— «Катюша»! «Широка страна моя родная»! — стали покрикивать на бегу бойцы. И артисты, идя позади бойцов или присев у хорошего дерева, пели им, ничего теперь уже не понимая, куда они вышли и куда бредут дальше.
— Знаете, Малафеев, теперь я вас поняла, — возбужденно говорила ему девушка по имени Лида. — Да, слабому нужно думать в минуты опасности. Слабый должен быть в этот момент умным. Слабому нужна ответственность. Я это здорово сама поняла. Сегодня я смело смогла бы пойти в атаку. Поверьте, это не фраза.
— Да уж ходили, — снисходительно сказал Малафеев. — С того края, где мы лежали, наших ни одного не было. Метров пятьсот мы сделали. И на «отлично».
1942
Мать с четырехлетним мальчиком переходила улицу. Путь преградили трамваи, остановившиеся по сторонам перекрестка. Она ожидала, чтобы вагоны разминулись.
Вдруг мальчик, весело взвизгнув, вырвался вперед и пробежал по рельсам перед самым вагоном, уже тронувшимся.
Мать закричала. Крик был так страшен, что оба вагоновожатых сразу затормозили. Публика высунулась из окон, а висевшие на подножках стали заглядывать под колеса.
— Тоже — мать! — отовсюду кричали женщине. — Балбеска несчастная!
Она металась в узком пространстве между трамваями, зовя: «Коля, Коля!» — и сразу сделалась какой-то растрепанной, жалкой.
— Какой из себя ваш? В голубой рубашке? Беленький такой?
Задыхаясь, отирая с лица пот, держа руку у горла, она кивала головой, глядя на окружавших ее полными ужаса глазами.
— Вон его какой-то военный подхватил на руки! Ранен наверно!
— Где, где? — Она заторопилась, куда ей указывали.
Высокий запыленный летчик, настолько запыленный, что казался одетым с ног до головы в одно серое, шел по тротуару, держа Николая на руках и все время целуя его. Мальчик смеялся и теребил летчика за уши. Он не казался ни раненым, ни даже ушибленным. Ему нравилось на руках у летчика.
— Товарищ военный, вы с ума сошли! — крикнула мать, догоняя летчика.
Тот продолжал итти, ничего не слыша.
— Колька ты мой, Колька! — бормотал он в блаженном безумии. — Как же ты тут оказался? Негодяй ты мой, милый!
Мальчик что-то отвечал ему.
— Слушайте, это хулиганство! — Мать схватила летчика за рукав и остановила его. Она была близка к истерике. — Куда вы потащили моего мальчика? — Она почти кричала: — Это безобразие! Оставьте его! Я позову милиционера!
Летчик оглянулся, точно его разбудили.
— Вы чего? — спросил он женщину.
Толпа уже окружила их шумным кольцом.
— Куда вы тащите моего мальчика? Это хулиганство!
— Какого вашего мальчика? Это мой собственный сын. — И, точно проверяя себя, летчик удивленно поглядел на малыша: — Ты чей сын, Коля?
— Твой! — кокетливо ответил тот и протянул руки к женщине. — А она — мама.
— Как она мама? А где же наша мама?
— Наша мама умерла, — объяснил Коля. — Немцы, когда пришли, они выстрелили в нее, а тетя Липа закрыла мне глаза, а потом я посмотрел…
— Понятно, Коля, понятно, — и отец судорожно втянул в себя воздух. — И вы взяли его? Давно? — спросил он женщину.
Она стояла, закрыв глаза, и скрипела зубами, будто превозмогая острую боль. Руки ее, все еще прижатые к горлу, дрожали.
— Вот что, — сказал летчик. — Вы маленько придите в себя. Как же мы тут… Надо бы нам поговорить… Куда вы шли?
— Домой.
— К себе?
— Ну да, к нам, — она несмело кивнула в сторону мальчика.
— Пошли. Я, правда, как чорт… да тут еще эдакий переплет… Ничего?
Толпа медленно расступилась.
— Ничего, что вы… — говорила женщина. — Вот сюда… Коленька, где твой платок? Вытри нос… Направо! Но вы не можете, не должны, вы не смеете действовать незаконно.
Летчик молчал. Она семенила за ним с таким виноватым видом, будто была уличена в преступлении, за которое ей грозит самое позорное наказание.
Они не помнили, как дошли.
Комната была маленькая, бедно обставленная, с кушеткой, столиком да примусом в углу, на чемодане.
Несколько стареньких игрушек лежало на подоконнике.
Летчик опустил сына на пол.
— Давайте познакомимся. Майор Бражнев.
— Рогальчук. Очень приятно. Думаю, что у нас не получится недоразумения.
— Какое тут может быть недоразумение? — сказал он, удивленно и вместе с тем строго взглянув на эту немного неприятную ему женщину.
Она была невысока, худощава, с очень милым лицом, которое портила только тяжелая складка у губ да выражение крайней растерянности — печать несчастья, бывшая душой всего лица.
Длинные волосы опоясывали голову светлым венком. Руки были тонки, голубоватых тонов. Малокровие.
— Садитесь, — сказал он. — Поговорим. Времени у меня мало.
— Стряхните с себя пыль, умойтесь, товарищ Бражнев, выпейте чаю…
В голосе женщины майор почувствовал желание удержать его и что-то противно выпросить, вымолить у него.
— Нет, сначала поговорим.
Все же, прежде чем начать рассказ, она успела выйти к соседке, и по звукам, скоро донесшимся из коридора, Бражнев догадался, что там разогревается чайник.
— Я жила в Ленинграде, — сказала Рогальчук. — В январе погиб мой муж. Почти на моих глазах. Я осталась одна. Было так тяжело, что я не знала, сумею ли жить. Мне нужна была жизнь рядом со мною, чья-то жизнь, чей-то рост… чье-то счастье, чтоб итти вместе с ним. Я решила усыновить сироту. Их было много. Но я не сразу нашла. Я искала похожего на мужа. Конечно, дети потом меняются, но хотя бы месяц-другой видеть родные черты в маленьком личике мне было просто необходимо. Затем я хотела, чтобы мальчик носил его имя. Когда я впервые увидела Колю, я сразу поняла — вот он, мой мальчик, мой навсегда.
— Какой же он сирота? — сказал майор. — Это ошибка.
— Нет, папа, я сирота, — вмешался Коля. — Тетю ж Липу опять немцы убили.
Он сидел, маленький, бледный, с личиком, тоненько разрисованным голубыми жилками, и внимательно следил за приключениями собственной жизни.
— В интернате мне сказали, что мать Коли убита, отец погиб на фронте, ближайшие родственники частью тоже погибли, частью в больнице на излечении. Я тут же договорилась с администрацией и взяла его.
— Тогда погиб не я, однофамилец мой, — сказал майор.
Рогальчук озабоченно оглянулась, что-то ища.
— Ты что, мама? — спросил ее мальчик.
— Сумочку.
— Ты опять ничего не видишь, мама, сумочка же вот, на стуле.
Исподлобья взглянув на сына, майор пробарабанил пальцами по столу.
Его оскорбляло, что мальчик называет матерью эту чужую женщину, но он стеснялся сделать ему замечание вслух.
Рогальчук вынула из сумочки паспорт и положила перед майором.
— Я считала, что имею право взять сына погибшего командира. Я человек грамотный, я работаю, я могу воспитать ребенка. Я сама вдова командира.
Голос ее был приятно негромок и, вслушиваясь в него, Бражнев думал о той, которой он уже никогда не увидит, о той веселой, тоже немножко болезненной, но все же гораздо более сильной, чем эта женщина, которая была его женой, его счастьем, половиною его сил и надежд.
С ее смертью он становился как бы гораздо меньше, недолговечнее, бесталаннее, точно вместе с нею терял и часть своего огромного, всегда казавшегося беспредельным, будущего.
Соседка внесла на подносе две чашки чая и блюдечко с вареньем. Бражнев машинально придвинул к себе чашку и, только положив в нее две ложки варенья, сообразил, что не то делает.
В комнате было тихо. По-видимому, Рогальчук уже кончила говорить.
— Эх ты, папа, папа! А еще взрослый! — И Коля, очень довольный, что поймал отца на ошибке, захлопал в ладоши. — Мама даст тебе! Вареньице надо всегда на хлеб мазать. Не знаешь?
Отец смущенно улыбнулся.
— Чорт его, я отвык, как тут у вас… Ну, виноват, не буду. А сладкий чай ты выпей, Колька.
— И опять неправда, — назидательно возразил мальчик. — Я еще кашу есть буду, а чай потом.