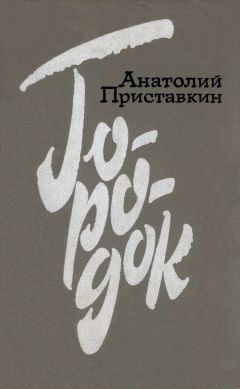Все довольно бестолково уставились на него.
— Вы что сказали, Григорий Афанасьич? Жарко?
— Пожар! Городок горит! — крикнул он в отчаянии.
Секунду еще никто не двигался, но потом одновременно все повскакивали, кто-то бросился к окну глядеть, другие сразу к двери.
Лишь дед Макар остался сидеть на своем месте, он задремал и ничего не слышал. И слава богу. Неизвестно, как бы он это воспринял и не хватила ли его кондрашка от такого сразу известия. Но он продолжал дремать за пустым столом, и лицо его оставалось прекрасно спокойным.
За несколько минут до этой страшной новости, ничего не ведая, Григорий Афанасьевич и Третьяков вели, стоя во дворике, разговор. В общем-то Шохов знал, что этот разговор произойдет. Он должен был произойти там, в Челнах, да только Шохов уехал. Если не сказать проще, сбежал. Вспомнилось, как вернулся он из Москвы веселый, отдохнувший. Тамара Ивановна кучу пластинок накупила. А в первый день работы ему под нос приказ о понижении. И подпись Третьякова.
Два года, с тех самых пор, как написал своему дружку по техникуму, Третьякову, его звали тогда Лешка Длинносогнутый,— тянул под руководством Третьякова лямку мастера. Грызлись, не без этого. Друг на то и друг, чтобы спихнуть на тебя всю неблагодарную работу. Попробуй-ка отказаться. А тут случилось на участке — трубу на котельной ОРСа завалили. Стали ее поднимать, а она рухнула, железная дура, снеся полкрыши на прорабке. К счастью, никого не убила. Шохов к трубе отношения не имел, он отказался ее поднимать, только котельную строил. Но, выгораживая себя, Третьяков написал тот самый приказ: за аварию с трубой мастера Шохова перевести в рядовые рабочие. Ни строгого выговора, а вот так: как буйного для заклания.
Это потом Третьяков сказал, что он не думал, что все так круто пойдет. Он еще после отпуска вызвал Шохова, предложил снова поднимать трубу. Мол, поднимешь — снимем наказание. А Шохов уже знал, что без него пытались ее поднять тремя тракторами. Да такие мастера, трактора-то разных марок, разные степени разгона, она и должна была рухнуть.
Не стал он тогда выяснять отношения с Третьяковым. Вдруг собрался, попросил Тамару Ивановну ждать и уехал.
— А ты, как вижу, Шохов, преуспел,— нарушил молчание Третьяков, окидывая взглядом двор, заваленный строительным хламом.— Ты, брат, живуч, а?
— Твоими молитвами,— в тон ему, но вроде бы мирно отвечал Шохов.
Они присели на скамеечку под окном. Помолчали, вглядываясь в густеющие сумерки и в отблески где-то в отдалении зажженного костра. Так им показалось поначалу, что горит костер, и Третьяков еще произнес:
— Ишь запалили! Не боятся!
А Шохов, занятый своими мыслями, сказал:
— Ребятишки, наверное.
— Да уж больно шибко.
— А может, солярку... Она знаешь как горит.
И опять помолчали.
Третьяков чуть гундосо, вяло спросил:
— Значит, все-таки затаил?
— Да нет, я о тебе и не вспоминал, честно говоря,— сказал Шохов.— Но вот сейчас увидел и вспомнил, как все было. Как ты мне эту трубу повесил.
— Я и говорю: затаил. Ну, а в чем же я виноват-то был? Только в том, что дружил с тобой?
— Нет, это я был виноват, потому что нельзя с другом вместе работать, — твердо произнес Шохов.— Учились, ладно. А работать надо было порознь. Подперло, ты и предал.
— Называй так, если тебе удобнее,— спокойно сказал Третьяков.— Но ты тоже не золото. Ты зарывался так, что сам себя под монастырь подводил. И меня, конечно.
— Ну, я и говорю, что я сам виноват,— повторил Шохов.— Вот тут я характеристику по одному поводу брал... Отлично все написали. Хороший специалист, умею организовать производство, и остальное в том же духе... Но... Написали, что мало интересуюсь общественной работой, не посещаю политзанятия и прочее. А я согласен. Меня спрашивают: «Почему вы пассивны в общественной работе?» А я отвечаю: «Некогда. Я дом строю. Вы же квартиру мне не даете?» И весь сказ. А напиши-ка это про меня друг, я ему первый скажу: «Не активный, да? А я с тобой дома, при бутылке, душу активно выворачивал наизнанку, а ты прямиком в характеристику?» Вот я и говорю, что отношения по работе должны быть такие: ты приказал, а я исполнил. А между нами долг один. Я и с рабочими сейчас не многословлю. Он, подчиненный, всяческую лазеечку ищет, чтобы в душу тебе пролезть. А цель, может, неосознанная, одна: получить любую выгоду... Как и друг у друга, когда они вместе.
— Где, кстати, работаешь? — поинтересовался Третьяков.
— На водозаборе.
— Ну слава богу. А то бы могло совпасть: опять вместе... Я в СМУ Жилстроя.
— Тоже... не выдержал? Сбежал?
— Зачем? Я в общем-то закончил там...
— Не врите, Алексей Николаевич! Там работы на сто лет хватит.
— Я закончил свой цикл и уехал. Устал.
— Это уже точнее. Устал от потогонной системы?
— От всего.
— Значит, простите за откровенность, ваша система вам счастья не принесла?
— Какая система?
— Ну, какая...— Шохов усмехнулся.— Такая. Другого топи, а себя спасай.
— Нет, Гриша,— произнес Третьяков с грустью. Как-то очень по-человечески произнес, ему сейчас нельзя было не верить.— Нет. Я и правда лучше многих других работал. Я считал, да и сейчас считаю, что цель оправдывает средства. Но я заработал язву на своей работе. А сейчас еще и нервы стали пошаливать.
— Не совесть?
— Это, милый, абстракция... Совесть! Конечно, я понимал, что я делал, когда ты уходил. Мне отец сказал: что же ты Гришку топишь?! Но ведь другого пути-то не было.
— Не было, значит? — переспросил вовсе без нервов, но определенно с горечью Шохов.— А здесь как ты собираешься работать?
— Так же, Гриша. По-другому я не умею.— И, помолчав, Третьяков добавил: — По-другому мы вообще ничего не построим.
Сумерки еще сгустились, и пламя теперь стало выше и красивее. Но они вовсе не смотрели на него, занятые своим разговором, и даже его не замечали.
— Зачем же ты пришел ко мне? — спросил впрямую Шохов. Это у него вышло немного грубовато.
— А-а... Ну, просто. Ты же тут как-никак комендант?
— Я комендант? — переспросил Шохов.
— А ты не знал! Без тебя вроде бы неудобно и вагончик поставить. Так мне сказали.
— Врут, — отрезал Шохов.
— Может быть. Но все-таки хотел заручиться твоей поддержкой. По старой дружбе,— вроде бы с иронией произнес Третьяков.
— А что ты собираешься строить? — равнодушно, чуть ли не зевая, спросил Шохов. Ему и вправду вдруг надоел весь этот разговор.
— Да ничего особенного. Мне надо несколько месяцев пережить... Мне дадут, должны дать, приличную квартиру...
— Вот и я удивился — ты же номенклатура?
— Но я уехал без разрешения... Со скандалом!
— Ах, вон что!
— Сейчас-то все улажено. Только они не могут сразу, а жить в гостинице, сам понимаешь...
— Да, да, — сказал Шохов.
— Мои рабочие приволокут вагончик или на ходу что-то там сляпают.
— Твои рабочие? — переспросил со странной интонацией Шохов.
— Ну, а кто еще? Может, ты считаешь, что я сам должен лепить этот Шанхай?
Шохов, не отвечая, встал, собираясь идти домой. Разговор был закончен. О чем им тут толковать, когда высокий начальник, потерпевший служебное крушение, не представляет, как это он сам может что-то сделать без помощи подчиненных, а возможно, и государственных материалов... Да черт с ним в конце концов! Какая ему, Шохову, разница, кто, как и из чего строит себе дворец! Лешка Третьяков лучше его приспособился к этой жизни, а вот не удержался же... Тоже докатился, как сам считает, до Вор-городка! А пришел, так это не от чувства вины, а порядок такой, что прописываться надо у Шохова, то он будет следовать такому порядку. Он привык...
Так раздумывал Шохов, когда с громким криком во двор вбежали Вовка с Валеркой. Они радостно закричали:
— Пожар! Пожар!
— Где пожар? — спросил Шохов, но, еще не закончив фразы, уже точно знал, что зарево, принимаемое им за костер, и есть тот самый пожар. Он хватился бежать к калитке, но тут же вернулся. Почти спокойным шагом зашел в дом и с порога, пытаясь совладать с собой, произнес: «Пожар!» — и потом, уже в отчаянии: — Пожар! Городок горит!
Все бросились на улицу. Лишь дед Макар, задремавший, остался за столом. Петруха, одним из первых подскочивший к окну, чтобы верней сориентироваться, стал будить старика, произнеся:
— Макар Иваныч, пожар. Просыпайтесь, горим ведь.
— Кто... Что... — спросил дед Макар.— Кто горит?
Дед Макар уставился в окно, на яркое красное зарево.
— Вот тебе и надежность...— пробормотал он.— Вот тебе и прочность в жизни. А она раз — и в пепел. Одни гвоздики в золе.
Шохов бежал к месту пожара, успев по дороге прихватить ведро. Издали, от его дома, могло и вправду показаться, что горит весь Вор-городок, такое сильное, высокое было зарево, даже небо окрасилось в багрово-красный цвет. Но, уже приблизившись, увидел, что горит одна-единственная хибара. Он вроде бы помнил, чья она, но теперь соображать было некогда. Люди суетились около огня, всяк по себе, кто с ведром, а кто с топором, пытаясь каждый что-то сделать.