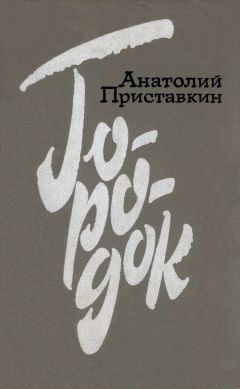И еще сложность. Каждое яблоко, апельсин или конфета не идут, возникает виноватая мысль: а они как же? Дети? Раньше-то все им отдавалось. А теперь вдруг я сижу и ем... А вдруг у них нет?
А ведь страшно-то умирать в одиночку. Не смерть страшна, а одиночество, смерть в одиночку...
Я вдруг подумал, что в моей одинокости никто и ничем не может мне помочь и я сам, сам, повисший в пустоте, могу лишь решить, что сейчас с собой делать. Жизнь кругом прекрасна, и я это осознаю, и друзья у меня еще есть, и дети. Но я как бы вне этого, и мое состояние характерно тем, что его возможно или невозможно пережить.
Вот я и думаю: возможно все-таки или невозможно?
Это я сам решу. Только я не знаю, не могу знать пока, как я решу. Что-то делаю, общаюсь, с дочкой хожу играть, а некая пружина во мне кружится, подсчитывает: возможно — невозможно. Я будто слежу со стороны, как я решаю.
Нельзя сказать, что я пассивен. Я даже к дочке хожу не ради нее, а и для себя также, чтобы думать, что не один я, не в пустоте, а значит, возможно жить. Но сам-то я знаю, что один кругом, весь — один. Голенький! И вопрос вовсе не решен, вот что ужасно. Но ужасно ли? Для кого? Только для меня одного и ужасно.
Один приятель:
— Все мы творцы собственных несчастий.
— Ну и что же, я это знаю,— сказал я.
— Что же ты ищешь тогда сочувствия? Не ищи. Сам виноват.
Два вопроса меня волнуют прежде всего. Бережение друзей и необходимость страдания, которое ко мне пришло через уход.
У меня сосед по квартире (здесь две комнаты) старичок дворник. Говорят, что он сумасшедший. Вся его странность проявляется в том, что он ничего не говорит. Только звонит по телефону неведомо кому и рассказывает о себе. Как встал, как поел и так далее. Однажды, выходя в коридор, я заметил, что он набирает только пять цифр.
Вот и сегодня он поужинал в одиночку на кухне, помыл посуду и накрыл ее газеткой. Потом набрал чей-то номер (пять цифр) и сказал: «Я пошел спать. Спокойной ночи».
Когда он ушел, я набрал эти же пять цифр, но никто мне не ответил. Добрал еще нуль, вышла справочная вокзалов. Автомат глухо проворчал: «Ждите, вам ответят». Мне ждать было незачем, я положил трубку. Потом полез в саквояж и вынул стеклянный флакончик со снотворным. Рассматривая его, подумал еще, что выпить всю эту кучу сразу, единой горстью, невозможно. Значит, пятьдесят штук по одной.
Последний раз набрал номер дома. Бывшего дома.
— Сынок, как дела?
— Ничего.
— Ты был в школе?
— Да.
— Ну и что?
— Ничего.
— А как ты себя чувствуешь?
— Ничего, папа. Ты не можешь позвонить в другой раз?
«Не могу»,— я не мог сказать.
— Мы смотрим телевизор. Это... Ну, Штирлица. До свидания! — сказал он и положил трубку.
Я пошел в комнату и высыпал таблетки на ладонь. Сколько их тут... Да ладно. Какая разница, одной больше, одной меньше. Я взял одну на язык и проглотил. Они, оказывается, глотались легко. Вторая, третья, четвертая.
«...Мама порой подолгу глядела на нас, занимавшихся за столом, молча, с тяжелой печалью. Не раз повторяла: «Вырастете, и я вас не увижу... Какие-то вы будете!» В другой раз с горькой улыбкой: «И подумаешь, что каждый прохожий сможет вас увидеть, а я не увижу!»
Это Анастасия Цветаева. Пятая, шестая, седьмая... Я потому и вспомнил, что понял, что это все. А дочка однажды сказала, сидя у меня на коленях: «Хорошо, что мама на тебе женилась. Ты — добрый!»
Восьмая... Или седьмая. Какого черта, ведь все равно. Девятая. Десятая.
Однажды дочка сказала: «Пап, а отчего люди умирают?»
— От старости,— ответил я.
— А потом что? — Я не смог ей ответить. Она продолжала: — А я не умру. Потому что я не хочу умирать.
Я тоже не хочу! Одиннадцатая! Двенадцатая! Что же я делаю? Тринад...
О господи, я не увижу никогда свою дочку. Любой прохожий... А я — никогда! А как она без меня будет?
Я швырнул флакон, и он покатился по полу с каким-то странным треском. Какое-то мгновение сидел, пытаясь что-то сообразить. Бросился в коридор, в туалет. Наклонился над унитазом и сунул палец в рот. «О господи! — умолял.— Помоги, о господи!» Но меня стошнило только слюной. Я выпил воды и опять попытался стошнить. Теперь получилось. Я добрался до постели и будто отключился.
Во сне я видел бога, сердитого небольшого старика. Он сидел на чердаке нашего деревянного дома (тот, где я жил в детстве), и я лез к нему по деревянной шаткой лесенке. Я лез и плакал, умоляя меня принять. Но он отталкивал меня ногами и кричал гневно: «Иди! Иди отсюда!»
Проснулся в слезах и распухшей от сна головой. Вышел покачиваясь как пьяный в коридор и увидел моего старичка.
Почему-то испуганно он произнес:
— Ну, слава богу. Уже вторые сутки... У меня чай есть, хотите?
Я попил чай, и мне стало легче...»
Тамара Ивановна в этот день обошла почти весь Вор-городок. Это было вдвойне интересно: хотелось посмотреть, как живут здесь люди, да и познакомиться с теми, кого в письмах называл ее муж.
При близком рассмотрении Вор-городок не производил такого монолитного впечатления, как с Вальчика, в первый день их приезда. Улицы, довольно просторные, вовсе не были так чисты и стройны, потому что каждый строил домик, как ему казалось наиболее удобным. Домики были разные, вовсе крохотули, даже вагончики, и крепкие, из рубленых старых изб, купленных на вывоз с пронумерованными бревнами, но, конечно, их шоховский дом, она отметила сразу и не без гордости, был тут самый видный.
Но люди обживались. На окнах светлели занавесочки, из труб кое-где был виден дымок. А многие приспособили летние таганки прямо во дворе. Тут и варили, и стирали, и даже обедали. Благо июль стоял на редкость сухой и теплый.
Кое-где были наспех вскопаны даже огородики, и что-то зеленело. Тут же возились куры, а в одном месте была привязана коза. Вспомнилось: «Пусти бабу в рай, она и скотину за собой приведет».
На некоторых времянках, не везде, торчали антенны телевизоров. Заборы были разные, крашеные и некрашеные. Но уже кое-кто вывесил снаружи почтовые ящики, дань моде или привычке, а иные нарисовали и название улицы: «Сказочная». То ли поверили, что и вправду такая, то ли вывесили для внутренней устойчивости, потому как с названием — привычнее было жить.
Проходя по Вор-городку, Тамара Ивановна не переставала думать о записках Петрухи.
Дед Макар встретил ее любезно. Хвалился домом, показал печь, которую сложил Григорий Афанасьевич, и телевизор, который собрал Петр Петрович.
Тамару Ивановну заинтересовала машина деда с ее планетами. Она спросила, можно ли, когда она пойдет учительствовать в школе, чтобы Макар Иванович рассказал ученикам о машине: для чего она, какие вопросы помогает решать.
— Это машина счастья, уважаемая Тамара Ивановна,— сказал старик посмеиваясь.— Только об этом вряд ли надо говорить. Люди это считают чудачеством.
— Дети-то более чуткие, чем взрослые!
— Вы правы... Но мы и детишек успеваем так быстро испортить! Они слышат взрослых и повторяют их... Не хотите ли, дорогая, лучше кофе?
И, без какой-либо видимой связи с предыдущим, старик повторил какую-то цитату из Бернарда Шоу, что разумный человек приспосабливается к миру, а вот неразумный — тот пытается приспособить мир под себя. Он — дед Макар, из последних.
На вечер старик обещал прийти.
Галина Андреевна встретила Тамару Ивановну, будто ее ждала. Обо всем успели они поговорить, посплетничать. Но эти сплетни никаким образом не касались Шохова, к последнему Галина Андреевна питала добрые чувства, хотя... он ничего не сделал, чтобы помочь мужу Галины Андреевны.
— А он может? — спросила Тамара Ивановна почти виновато.
— Каждый может,— отвечала Галина Андреевна твердо,— помочь другому человеку в беде.
— Вы думаете, что он...
— Да нет, я так пока не думаю. Но мой долгий опыт (долгий, потому что долгое мое несчастье) подсказывает, что люди чураются чужих несчастий, я же первая с просьбами никогда не лезу. Да, существует, знаете ли, еще инерция, с некоторых времен создающая атмосферу вокруг такого рода помощи...
— Я поговорю с Шоховым,— пообещала Тамара Ивановна.
— Спасибо, — произнесла Галина Андреевна, благодарно глядя на гостью.
Вот и о ней, о трудных ее часах, проведенных без мужа, думала Тамара Ивановна, тоже соизмеряла с Петрухиными записками. Были ли у Галины Андреевны такие мгновения, когда казалось, что жизнь кончена и нет больше сил дальше жить? Наверное, были. Не без этого.
А разве сама Тамара Ивановна не пережила нечто подобное, когда получила одно из шоховских писем. Конечно, не такой уж была она наивной девочкой, чтобы не понимать, что в долгих поездках может завестись у него какая-нибудь зазноба. Но одно дело понимать, а другое — знать. Даже страшно сейчас вспомнить, что она тогда пережила, передумала... Заметалась, отчаиваясь и не зная, как дальше жить. Благо, что рядом был Вовка. Она просидела около его постельки всю ночь, боясь остаться одной. Может, это ее и спасло. В отчаянии и слезах повторяла про себя: «Это меня бог наказал! Сама виновата!»