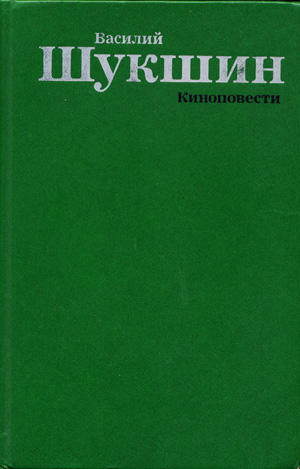и покатился с веником по сырой земле.
– Свари-ил! – кричал Петро. – Живьем сварил!..
Следом выскочил Егор с ковшом в руке.
К Петру уже бежали из дома. Старик бежал с топором.
– Убили! Убили! – заполошно кричала Зоя, жена Петра. – Люди, добрые, убили!..
– Не ори! – страдальческим голосом попросил Петро, садясь и поглаживая ошпаренный бок. – Чего ты?
– Чего, Петька? – спросил запыхавшийся старик.
– Попросил этого полудурка плеснуть ковшик горячей воды – поддать, а он взял да меня окатил.
– А я еще удивился, – растерянно говорил Егор, – как же, думаю, он стерпит?.. Вода-то ведь горячая. Я еще пальцем попробовал – прямо кипяток! Как же, думаю, он вытерпит? Ну, думаю, закаленный, наверно. Наверно, думаю, кожа, как у быка, – толстая. Я же не знал, что надо на каменку…
– Пальцем потрогал, – передразнил его Петро. – Что, совсем уж?.. Ребенок, что ли, малый?
– Я же думал, тебе окупнуться надо…
– Да я еще не парился! – заорал всегда спокойный Петро. – Я еще не мылся даже!.. Чего мне ополаскиваться-то?
– Жиром надо каким-нибудь смазать, – сказал отец, исследовав ожог. – Ничего тут страшного нету. Надо только жиру какого-нибудь… Ну-ка, кто?
– У меня сало баранье есть, – сказала Зоя. И побежала в дом.
– Ладно, расходитесь, – велел старик. – А то уж вон людишки сбегаются.
– Да как же это ты, Егор? – спросила Люба.
Егор поддернул трусы и опять стал оправдываться:
– Понимаешь, как вышло: он уже наподдавал – дышать нечем – и просит: «Дай ковшик горячей». Ну, думаю, хочет мужик температурный баланс навести…
– «Бала-анс», – опять передразнил его Петро. – Навел бы я те счас баланс – ковшом по лбу! Вот же полудурок-то, весь бок ошпарил. А если б там живой кипяток был?
– Я же пальцем попробовал…
– «Пальцем»!.. Чем тебя только делали, такого.
– Ну, дай мне по лбу, правда, – взмолился Егор. – Мне легче будет. – Он протянул Петру ковш. – Дай, умоляю…
– Петро… – заговорила Люба. – Он же нечаянно. Ну, что теперь?
– Да идите вы в дом, ей-богу! – рассердился на всех Петро. – Вон и правда люди собираться начали.
У изгороди Байкаловых действительно остановилось человек шесть-семь любопытных.
– Чо там у их? – спросил вновь подошедший мужик у стоявших.
– Петро ихний… пьяный на каменку свалился, – пояснила какая-то старушка.
– Ох, е!.. – сказал мужик. – Так, а живой ли?
– Живой… Вишь, сидит. Чухается.
– Вот заорал-то, наверно!
– Так заорал, так заорал!.. У меня ажник стекла задребезжали.
– Заорешь…
– Чо же, задом, что ли, приспособился?
– Как же задом? Он же сидит.
– Да сидит же… Боком, наверно, угодил. А эт кто же у их? Что за мужик-то?
– Это ж надо так пить! – все удивлялась старушка.
…Засиделись далеко за полночь.
Старые люди, слегка захмелев, заговорили и заспорили о каких-то своих делах. Их, старых, набралось за столом изрядно, человек двенадцать. Говорили, перебивая друг друга, а то и сразу по двое, по трое.
– Ты кого говоришь-то? Кого говоришь-то? Она замуж-то вон куда выходила – в Краюшкино, ну!
– Правильно. За этого, как его? За этого…
– За Митьку Хромова она выходила!
– Ну, за Митьку.
– А Хромовых раскулачили…
– Кого раскулачили? Громовых? Здорово живешь?..
– Да не Громовых, а Хромовых!
– А-а. А то я слушаю – Громовых. Мы с Михайлой-то Громовым шишковать в чернь ездили.
– А когда, значит, самого-то Хромова раскулачили…
– Правильно, он маслобойку держал.
– Кто маслобойку держал? Хромов? Это маслобойку-то Воиновы держали, ты чо! А Хромов, сам-то, гурты вон перегонял из Монголии. Шерстобитку они держали, верно, а маслобойку Воиновы держали. Их тоже раскулачили. А самого Хромова прямо из гурта взяли. Я ишо помню: амбар у их стали ломать – пимы искали, они пимы катали, вся деревня, помню, сбежалась глядеть.
– Нашли?
– Девять пар.
– Дак, а Митьку-то не тронули?
– А Митька-то успел уже, отделился. Вот как раз на Кланьке-то женился, его отец и отделил. Их не тронули. Но, все равно, когда отца увезли, Митька сам уехал из Краюшкиной: чижало ему показалось после этого жить там.
– Погоди-ка, а кто же тада у их в Карасук выходил?
– Это Манька! Манька-то тоже ишо живая, в городе у дочери живет. Да тоже плохо живет! Этто как-то стрела ее на. базаре; жалеет, что дом продала в деревне. Пока, говорит, ребятишки, внучатки-то маленькие были, была, говорит, нужна, а ребятишки выросли – в тягость стала.
– Оно – так, – сказали враз несколько старух. – Пока водисся – нужна, как маленько ребятишки подросли – не нужна.
– Ишо какой зять попадет. Попадет обмылок какой-нибудь – он тебе…
– Какие они нынче зятья-то! Известное дело…
Несколько в сторонке от пожилых сидели Егор с Любой. Люба показывала семейный альбом с фотографиями, который сама она собрала и бережно хранила.
– А это Михаил, – показывала Люба братьев. – А это Павел и Ваня… вместе. Они сперва вместе воевали, потом Пашу ранило, но он поправился и опять пошел. И тогда уж его убило. А Ваню последним убило, в Берлине. Нам командир письмо присылал… Мне Ваню больше всех жалко, он такой веселый был. Везде меня с собой таскал, я маленькая была. А помню его хорошо… во сне вижу – смеется. Вишь, и здесь смеется. А вот Петро наш… Во, строгий какой, а самому всего только… сколько же? Восемнадцать ему было? Да, восемнадцать. Он в плен попадал, потом наши освободили их. Его там избили сильно… А больше нигде даже не царапнуло.
Егор поднял голову, посмотрел на Петра… Петро сидел один, курил. Выпитое на нем не отразилось никак, он сидел, как всегда, задумчивый и спокойный.
– Зато я его сегодня… ополоснул. Как черт под руку подтолкнул.
Люба склонилась к Егору и спросила негромко и хитро:
– А ты не нарочно его? Прямо не верится, что ты…
– Да что ты! – искренне воскликнул Егор. – Я, правда, думал, он на себя просит, как говорится – вызываю огонь на себя.
– Да ты же из деревни, говоришь, как же ты так подумал?
– Ну… везде свои обычаи.
– А я уж, грешным делом, подумала: сказал ему что-нибудь Петро не так, тот прикинулся дурачком да и плесканул.
– Ну!.. Что ж я?..
Петро, почувствовав, что на него смотрят и говорят о нем, посмотрел в их сторону… Встретились взглядом с Егором. Петро по-доброму усмехнулся.
– Что, Жоржик?.. Сварил было?
– Ты прости, Петро.
– Да будет! Заведи-ка еще разок свою музыку, хорошая музыка.
Егор включил магнитофон. И грянул тот самый марш, под который Егор входил в «малину». Жизнерадостный марш, жизнеутверждающий. Он несколько странно звучал здесь, в крестьянской избе, – каким-то потусторонним ярким движением вломился в мирную беседу. Но движение есть движение: постепенно разговор за столом