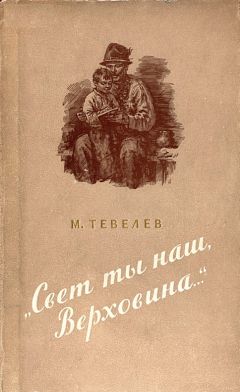Минуты две-три было тихо, но вот скрипнула подлестничная дверь, прохрустел снег, и у ограды остановились двое.
— Так и есть! — произнес один. — Прошел. Видите след? Давайте назад, может быть успеем.
— Я не могу быстро, — сказал другой, — у меня одышка.
— Но вы уверены, что это он?
— Ну конечно, он!
«Матерь божья, да то Луканич!» — подумал Горуля, но и голос второго показался ему знакомым, однако кому он мог принадлежать, сразу вспомнить не мог. Только потом, когда двое ушли, его осенило: Сабо!
Выходить на другую улицу было теперь небезопасно. Горуля какое-то время подождал, перелез обратно через ограду, пересек двор и, очутившись снова в подъезде, выглянул на площадь: ни души! Он обогнул площадь, вышел через Корзо на набережную Ужа и дальним, кружным путем, поминутно оглядываясь и наконец убедившись, что никого не ведет за собой, выбрался на подлесную сторону, к деревянному дому. Дом стоял на отшибе, поодаль от других строений, посередине большого фруктового сада. Сад был обнесен низкой плетеной загородкой, местами почти заваленной снегом. Справа, метрах в трехстах, пролегала ведущая к лесу дорога; слева же, за узкой полосой виноградника, лежала большая пустошь, обрывающаяся скатом к задворкам ужгородской окраины.
Выйдя из-за дерева, дозорный тихо окликнул Горулю и, получив ответ, снова скрылся на свое место.
Дверь открыла молодая мадьярка — хозяйка дома. Горуля пошел за ней по длинному полутемному коридору, но вдруг остановился, недоуменно поглядев на женщину. Откуда-то из глубины дома донеслась песня. Пели ее негромко, но слаженно несколько мужских голосов.
Поймав взгляд пришедшего, женщина улыбнулась.
— Поют, — сказала она по-венгерски, — но вы не беспокойтесь, с улицы ничего не слышно.
Горуля подошел к одностворчатой двери, из-за которой доносилось пение, осторожно приоткрыл ее и за глянул в комнату.
Комната была большая и скудно обставленная. Свет низко опущенной лампы с трудом пробивался сквозь клубы табачного дыма.
Расположившись на диване у жарко натопленной печи, несколько человек вполголоса, полузакрыв глаза, тянули припев старинной шутливой жалобы чабана, который никак не может выбрать себе невесту.
А запевал жалобу Куртинец. Он сидел посреди комнаты, облокотившись на спинку стула, и, подперев щеку, время от времени взмахивал рукой, и этот взмах служил сигналом к вступлению хора.
Своим пением эти люди как бы бросали вызов тем тревогам и опасностям, которые их подстерегали в жизни на каждом шагу, а выражение их лиц словно говорило: «Не сама песня радует нас, а радостно нам потому, что мы собрались и поем вместе, и когда разойдемся, мы все равно будем вместе».
Настроение людей передалось Горуле. С радостным чувством он переступил порог комнаты, и недавние его страхи рассеялись.
— Что так поздно? — спросил Куртинец, подходя вместе с Верным к Горуле.
— Был хвост, — мрачно ответил тот и стал рассказывать о том, что произошло.
Верный слушал удрученно.
— До Бороша мы давно добираемся, — проговорил он, — сколько на нем крови наших товарищей… Зажился он на белом свете. А Луканич?.. Если бы не ты мне это сказал, Илько, я б не поверил.
— Ты убежден, что отвязался? — беспокойно спросил Горулю Куртинец.
— Не сомневайся. Пришлось поплутать.
— Вот что, — приказал Куртинец, — надо все же расставить дозорных подальше от дома, и не будем терять времени.
Верный ушел выполнять приказание. Через несколько минут он возвратился и шепнул Куртинцу, что все сделано.
— Что ж, — произнес, взглянув на часы, Куртинец, — пора начинать.
Сидевшие за столом потеснились, но Куртинец за стол не сел, а, прислонившись спиной к печке и заложив назад руки, просто и негромко, словно делясь своими думами, заговорил о последних сводках с фронтов, об усилившейся партизанской борьбе и о том новом, что должны выполнить в сложившейся обстановке подпольные группы и народные комитеты.
Внезапно его оборвал на полуслове тревожный условный сигнал дозорного. Тотчас же распахнулась дверь, вбежала взволнованная хозяйка и сказала:
— Солдаты!
— Где они? — быстро спросил Куртинец.
— Везде: на дороге, около сада, ка виноградниках…
Люди вскочили с мест.
— Снять сорочки и надеть их поверх. Быстро! — приказал Куртинец. — Оружие у всех?
— У всех, — ответили люди, принявшиеся торопливо выполнять приказание Куртинца.
Вбежал в комнату дозорный и, задыхаясь, сбивчиво рассказал, что солдаты подъехали на семи машинах, рассыпались цепью и стали охватывать кольцом местность вокруг дома.
— Густо идут? — спросил Куртинец.
— Пока метрах в пятнадцати друг от друга.
— Выходить из дому по двое, — приказал Куртинец товарищам, — у дверей не толпиться, и бегом до плетняка. Залечь в разных концах и ждать, когда солдаты подойдут вплотную, а уж тогда по условному выстрелу прорываться; патронов на себя не оставлять, все по врагу, а если что произойдет… держаться как должно, чтобы не была стыдной память о нас у наших детей.
Первыми должны были выбежать из дому Верный и дозорный. Раньше чем выпустить их, Горуля шепнул Верному:
— Запомни, друже, Федора Луканича и Сабо. Если хоть один из нас в живых останется, пусть совершит суд над этими песиголовцами… Ну, смелее! — и распахнул дверь.
Верный с дозорным скатились с крылечка, упали в снег и словно поплыли по нему. Белые, надетые поверх одежды рубашки делали ползущих почти невидимыми.
За первой парой последовали Куртинец и Горуля, за ними и все остальные.
Снег был глубокий. Солдаты приближались к саду медленно, а Куртинец с Горулей сидели, притаившись, за плетняком. Было так тихо, что Горуля слышал, как под пальто тикают у него часы в жилетном кармане.
Наконец цепь подошла к саду. Солдаты шатнули плетняк, и один из них, тот, что оказался ближе к Куртинцу, уже занес длинную ногу, чтобы перебраться в сад, но Куртинец поднялся из-за плетняка и выстрелом в упор свалил солдата. И почти одновременно захлопали выстрелы в разных концах сада.
Увязая в снегу и отстреливаясь, Куртинец с Горулей уходили по пустоши к городской окраине. Преследовавшим их солдатам приходилось часто стрелять наугад, потому что импровизированные маскировочные халаты Горули и Куртинца сливались с белизной снега и преследователи теряли бегущих из виду. Но зато темные фигуры солдат были отчетливо видны на фоне белой пелены, и время от времени кто-нибудь из них, вскрикнув, так и оставался лежать на снегу.
— А ведь наши, пожалуй, уйдут, Илько! — прислушиваясь к отдаленным выстрелам, с надеждой говорил Куртинец.
— Могут уйти, друже, — ответил Горуля.
Когда до ската оставалось не больше пятидесяти шагов, Горуля вдруг пошатнулся и, хватая руками воздух, осел в снег. Куртинец бросился к товарищу, попытался поднять его, но Горуля не мог подняться. Сильный озноб как-то сразу охватил его тело, в груди будто пекло.
— Что с тобой, друже? — зашептал, становясь на колени, Куртинец.
— Уходи, Олекса, — прохрипел Горуля, — уходи, ради бога, скорее…
Какую-то долю секунды Куртинец поколебался, затем поднялся и бросился бежать. Солдаты, галдя, переваливаясь в глубоком снегу, устремились за Куртинцом.
Горуля видел, как, отбежав на большое расстояние, Куртинец бросился прыжком к откосу и покатился вниз, как он поднялся почти у самых двориков, но в это время от двориков отделилось несколько черных фигурок, и вдруг все они сгрудились и забарахтались в снегу.
Горуля рванулся, словно это на него навалились солдаты, и застонал. Потом он видел, как группа солдат двинулась в обратный путь по склону, подталкивая автоматами Куртинца. Тот взбирался молча, но, очутившись на пустоши, остановился ненадолго, выпрямился, как это показалось Горуле, и запел:
Верховино, свитку ты наш,
Гей, як у тебе тут мило!..
Он шел, окруженный солдатами, и пел. Голос его постепенно удалялся, но слышен был еще очень долго.
Горуля пролежал в нашем доме около недели. Для нас с Ружаной это было самое трудное и тревожное время. Мы не спали ночей, прислушиваясь к каждому шороху за стенами дома. Бывало стукнет где-нибудь калитка, и мне уже казалось, что это идут к нам.
Горуле становилось то лучше, то хуже, но мысль о Куртинце не покидала его ни на минуту. Он страдал невыносимо.
— Олексо, Олексо, — шептал он в отчаянии, стискивая зубы, — Олексо…
В часы, когда наступало улучшение, чтобы отвлечь Горулю от терзавшей его мысли, я начинал расспрашивать его о Советской стране. Долго Горуля говорить не мог, быстро уставал, но он заметно оживлялся, рассказывая, и на лице его появлялась улыбка.
Годы, проведенные в Советском Союзе, Горуля прожил в Харькове. Работал он плотником на строительстве большого завода и учился вечерами.