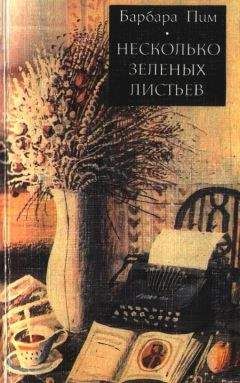Близкие с тревогой наблюдали за ней, часто заговаривали о лечении, но Оннонау каждый раз мягко, но настойчиво отвергала все предложения, вызывая сочувственное недоумение. Ей не хотелось оставлять дочь одну.
Шли годы. Аннушка выросла, закончила школу, вернулась в тундру и вышла замуж за соседского парня.
Со временем все свыклись с тем, что Оннонау слепая. Только те, кто впервые видели ее, дивились жизнерадостности, веселости, ее способности исполнять всю домашнюю работу нисколько не хуже, чем зрячие женщины. Она могла уходить далеко в тундру, в стадо и затем безошибочно определять обратный путь к дому но необъяснимым даже ей самой приметам.
Теперь ей не хотелось разлучаться с любимым внуком, названным в честь погибшего деда Василием. Этой осенью он отправлялся в школу-интернат, И этой же осенью Оннонау наконец-то собиралась поехать в какую-то необыкновенную клинику, где ей должны вернуть зрение.
Оставалось всего лишь несколько дней…
Наведя порядок в жилище, Оннонау присела у костра, обратив лицо к распахнутому входу в ярангу.
Она прислушалась. Где-то вдали тарахтел двигатель вездехода, в соседних ярангах негромко переговаривались люди… Но что это? Будто кто-то стонал, и не разобрать — то ли зверь, то ли человек. Стон резкий, надрывный, достаточно протяжный, внезапно обрывающийся, словно кто-то зажимал могучей, непроницаемой то ли лапой, то ли рукой пасть или рот… Стон доносился из тундры, и, если бы не особое доверие, которое испытывала Оннонау к собственному слуху, можно было бы предположить, что настороженное воображение само рождало странные звуки.
Она ведь ждала, надеялась услышать нечто знакомое, таящееся где-то глубоко в памяти, сопровождавшее их короткую, но такую счастливую жизнь с мужем.
Ожидание было мучительно бесплодным; что же такое случилось? Неужто человеческий разговор, гул вездехода сильнее шума реки, неустойчивого, неодолимого движения огромной массы воды, стремящейся к слиянию с соленым океаном?
Может быть, это другое место?
Да нет, все остальное соответствовало тому, что бережно хранилось в ее памяти: и этот сухой пригорок, и даже камни старого очага…
Но что случилось со звуками?
Снова издали донесся странный стон, и точно в сердце попала острая заноза, родив неутихающую, непонятную тревогу о далеком, страдающем существе.
Оннонау не обращалась к часам, чтобы узнавать время: за долгие годы жизни во тьме она научилась определять его по едва уловимым признакам: положению солнца над горизонтом, интенсивности светового потока, деятельности в стойбище. Вот и сейчас она с минуты на минуту ожидала возвращения домочадцев.
Она уловила звонкий голосок внука, поначалу прерываемый странными стонами, затем различила слова дочери, и лишь потом, уже у самой яранги — голос зятя. И не потому, что говорил он тихо: просто зять был человеком неразговорчивым.
— Бабушка! Бабушка! — теперь голос Василия заполнил все слышимое звуковое пространство. — Что я видел! Такого ты, наверное, никогда не видела!
Один лишь Вася мог, не задумываясь о том, что причиняет боль, громко говорить о слепоте бабушки, описывая ей какую-нибудь неведомую вещь, явление, нового человека.
— Так что же ты видел, Васенька? — спросила Оннонау, прижав к себе малыша.
— Я видел драгу!
— Это что за зверь такой? — шутливо переспросила Оннонау.
— Ты видела когда-нибудь драгу? Разве она была раньше?
— Не видела, не видела, — торопливо ответила Оннонау, чтобы не лишать внука приятной возможности рассказать самому о новой машине.
— У драги железные черпаки, как раскрытые рты, — захлебываясь, продолжал Вася. — И даже зубы в этих черпаках. Этими зубами драга откусывает берег и тащит в машину, как зверь в живот. А сзади вода хлещет и камни сыплются, будто она какает…
— Да это чудовище, — медленно и задумчиво произнесла Оннонау, легко представив себе работающую драгу, — Она еще стонет и ноет! Как живая!
Так вот откуда этот странный звук! От работающего железного чудовища, отгрызающего золотоносную землю.
— И много она уже съела? — спросила Оннонау.
— Много! Везде кучи оставила. Такие ровные, высокие, как горки…
Разговаривая с внуком, Оннонау ставила на середину яранги коротконогий столик, семейное деревянное блюдо с вареной олениной, чашки для чая.
Пока ужинали, Вася все говорил о драге, о тундровой автомобильной дороге, которая пролегла до самой Чаунской губы.
— Эта дорога далеко-далеко видна, — сообщил он. — И голубой автобус по ней бежит.
Оннонау слушала и дивилась: вот до чего дожили — по тундре стали ездить на автобусах! В ее детские годы колесная машина была только в букваре и вызывала множество сомнений и вопросов.
После ужина изрядно уставший Вася забрался в полог и почти мгновенно уснул.
Оннонау ждала вечернего спокойного часа, чтобы в наступившей тишине снова попытаться услышать шум речного потока. Она надеялась, что вместе с ним придут волнующие, сладкие до боли воспоминания о счастливых днях, когда они с молодым мужем мечтали о будущем, о долгой счастливой и дружной жизни в обновленной тундре. Василий считался опытным и знающим пастухом, и даже возникали разговоры о том, что его могут сделать председателем. Но каждый раз, когда слухи об этом усиливались, Василий отгонял стадо в такую даль, что проходило не менее полугода, прежде чем стойбище оказывалось в пределах досягаемости районных властей.
Да, то было удивительно насыщенное время: дня не хватало, чтобы переделать все дела, переговорить обо всем, насладиться ощущением бьющего через край счастья.
Василий охранял стадо, мастерил нарты, резал ремни из лахтачьей кожи, рубил стланик для костра, громко разговаривал на собраниях, требовал, чтобы в тундре было больше вездеходов, современных товаров, книг, журналов, радиоприемников, батареек, чтобы привезли маленькие чугунные печки в яранги, чтобы люди не слепли от дыма, стелющегося над земляным полом. Он мечтал построить легкий, передвижной деревянный домик, в котором можно было бы поставить стол, умывальник, и чтобы в стене было настоящее стеклянное окошко, в которое видна вся тундровая ширь. Вычитал где-то в журнале, что есть легкие, портативные ветроэлектростанции, загорелся идеей, куда-то писал, требовал и мечтал вслух, как над стойбищем будет сиять негаснущий яркий свет, к которому будут сбегаться олени, а волки умчатся во тьму и оттуда в бессильной ярости станут скалить свои клыки на неведомый луч, проникающий далеко окрест сквозь снежную метель и пургу.
И вместе со всем этим он был необыкновенно нежен и внимателен к своей молодой жене, хотя никогда ни единым словом не обмолвился о своем чувстве, о своей нежности. Он просто был таким, не прилагая никаких усилий. Когда Оннонау шла с полными ведрами воды по качающимся кочкам, когда думала: «Вот бы Василий был рядом, вот бы помог…» — он всегда оказывался тут как тут, без слов брал из ее рук тяжелую ношу. Так случалось и тогда, когда ставили ярангу. Хотя это была сугубо женская работа, Василий улавливал особый, не бросающийся в глаза момент, когда нужно поддержать тяжелое срединное бревно, ускользающую жердь или сползающий рэтэм, который так трудно набросить на деревянный каркас…
А как он был ласков в темноте наступившей ночи, когда от мохового светильника отрывался последний язычок желтого пламени и полог погружался в теплую, густую, мягкую тьму, обволакивающую разгоряченные тела, как самый нежный мех молодого олененка!
Казалось, так будет вечно, и никогда, даже в самых сокровенных глубинах сознания не возникала мысль, что все это может закончиться, оборваться в одно мгновение.
Память отказывалась вспоминать тот день, когда муж погиб под гусеницами вездехода, невольно отсекая то, что могло причинить невыносимую боль, затуманить сознание, рассудок.
Как только свиток жизни, который любила в тихие часы разматывать в своей памяти Оннонау, доходил до этого места, тут все и заканчивалось…
Вот и сейчас, уходя все дальше от яранги, от привычного шума готовящегося ко сну стойбища, Оннонау ожидала сладостных воспоминаний о том времени, когда они любили друг друга. Именно здесь, над слиянием могучей Ичу и Чауна, над неудержимым потоком стремящейся к вольному океану воды.
Время от времени Оннонау останавливалась и прислушивалась, стараясь уловить шум текущей воды. Но почему-то в уши назойливо лез все усиливающийся стон работающей в отдалении железной драги, и, хотя Оннонау никогда не видела машины, она живо представляла ее в виде чудовища, образ которого остался в памяти от школьных учебников или книг, описывавших доисторическое прошлое земли, когда здесь бродили мамонты и огромные, многотонные существа с пастями, усеянными острыми зубами. Она знала, что драга добывает золото, драгоценный металл. Куда же идет этот металл? Говорили, что золото ценно, как украшение. Дочь и зять, женившиеся по новому обряду, носили на руках золотые обручальные кольца. Вот, пожалуй, и все, что знала Оннонау о ювелирном применении золота. Правда, в детстве, когда Оннонау ходила в школу в Усть-Чауне, она видела одного человека, приезжего из Хабаровска, у которого во рту было несколько золотых зубов. По этому поводу среди школьников разгорелся спор, растут ли эти зубы сами, или же они поставлены взамен утраченных? Кто-то высказал такую мысль, что золотые зубы — знак особой учености, появляющийся после долгих лет овладения разными науками. Оннонау убедилась в этом, когда в тундру приехал важный чукча из самого окружного центра, Анадыря. Когда он говорил, во рту у него поблескивали два ярких золотых зуба. Золото открыли здесь, в долине, когда еще был жив Василий. Сначала появились геологи, а за ними на разных машинах уже другие люди. Тогда говорили: золото нужно стране! И еще в газетах и по радио называли Чукотку — валютный цех государства. В тогдашних разговорах о золоте кто-то вспомнил замечание о том, что при коммунизме золотом будут украшаться нужники. В тундре их и в помине не было. Если надо, уходили за дальнюю кочку. Нужники Оннонау видела в интернате и в больнице, когда рожала Аннушку. Но эти учреждения поразили Оннонау невероятной грязью, запустением и вонью, она с удовольствием подумала, что в тундре все это чище и проще… Зачем же золотые нужники?

![Юрий Рытхэу - Люди нашего берега [Рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149502/149502.jpg)