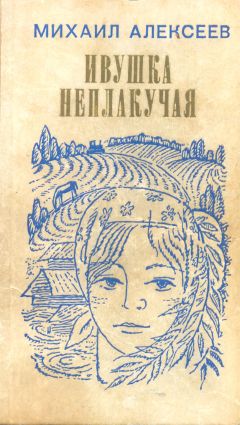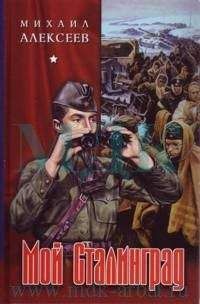Делая все эти дела, носясь по избе, она всякую минуту подбегала к зыбке, наклонялась над спящим ребенком, присланивалась ухом к его грудке, слушала и, отпрянув, шептала: «Живехонек, дышит…»
Постояла посреди избы, вспоминая, что ей еще потребуется на первый случай. Колыбелька, корытце оцинкованное, распашонки, соска — все это есть… Ах, мыльца бы беленького, детского! Но где его сейчас добудешь?
И снова, как бы производя учет, стала осматривать вещи, находящиеся в избе.
В тот день она не могла надолго оставить того, кто тихо покачивался в люльке. Чистая, нарядная, празднично одухотворенная, взяла приемыша на руки и присела у окна. Сидела и нетерпеливо ждала, когда кто-то войдет, скорее всего это будет Феня, — Степаниде очень хотелось, чтобы это была она! — придет и увидит ее, Степаниду, вот такую, сильную и гордую. Впрочем, пускай приходит кто угодно — теперь ей никто не страшен…
— Правда, сынок? — она чмокнула ребенка в сонные глазенята и рассмеялась.
Первым человеком, который заглянул к ней, была не Феня Угрюмова, а Матрена Дивеевна Штопалиха. По обязанности, возложенной ею на себя добровольно, каждое утро и каждый вечер с целью сбора свежих новостей она обходила все Завидово, заворачивая чуть ли не в каждый дом и к каждому колодцу, где сбивались, накапливаясь, бабьи гурты. Утренние сведения нужны были Што-палихе для того, чтобы поделиться ими с односельчанками во время вечернего обхода, а вечерние — для того, чтобы обогатить ими своих товарок при обходе утреннем. С годами к этим Матрениным обходам так привыкли, что уж, казалось, ие могли и жить без них, особенно, конечно, женщины. Многие из них не дожидались, когда Штопалиха войдет в пх двор, а сами, завидя пз окна ее приближение, выбегали на середину улицы, хватали эа рукав и, не в силах удержать в себе нетерпеливого любопытства, справлялись:
— Ну что, что там, Дивеевна?
— Аль ты, Глафира, не слыхала? — в свою очередь спрашивала, всплескивая руками, Штопалиха для того только, чтобы больше накалить пока еще не погашенное, не утоленное любопытство односельчанки.
— Ничего, — признавалась выскочившая за новостями, — откудова же мне?.. Я ить, Дивеевна, и на улицу-то не выхожу…
— Не слышала, значит?
— Ничегошеньки, Дивеевна! Ничегошеньки!
— Как же это? У Катерины Ступкиной ночесь бирюк последнюю овцу зарезал. Там слез-то, слез-то!.. Бедная! Правду сказывают люди: где тонко, там и рвется.
Так уж получалось, что Штопалиха была вроде бы живой, ходячей копилки новостей, которыми щедро делилась с односельчанами, и копилка эта не истощалась потому, что неутомимо изо дня в день обильно пополнялась. Словом, Штопалихиного появления на улице, на дворе, у окон ждали, и она была желанной гостьей чуть ли не в каждом доме. Лишь в войну, когда она, упредив Максима Паклёникова, приносила в иную избу совсем нерадостные вести, ее побаивались так же, как и почтальона, и, завидя Матрену торопливо вышагивающей вдоль дворов, шептали: «Господи, хотя бы только не к нам!» И собаки кидались на нее с той же яростью, что и на Максима. Другой бы на месте Штопалихи сделал соответствующий вывод и не спешил нести в дом черную новость, когда это мог сделать другой человек по тяжкой служебной необходимости. Но Штопалиха есть Штопалиха: она и в этом случае не могла уступить кому-либо первенства. Навязавшись в добровольные помощники к Максиму, она вытряхивала из его сумки на широченный стол всю корреспонденцию и принималась потрошить ее, пока почтальон подкрепляется с дороги. Не успеет Паклёников дозавтракать, а в Завидове то на одной улице, то на другой подымается бабий крик — по улицам этим уже прошлась Штопалиха. Со временем Максим решительно отстранил Матрену Дивеевну от своих дел, рассудив: лучше все-таки, ежели одна и та же горькая весть войдет в чей-то дом один раз, чем дважды.
После войны Штопалиха с ее новостями стала опять крайне необходимой всем завидовцам. Ее снова ждали. И она двигалась по селу важная и торжественная, поскольку битком была набита разными историями, которые сейчас же будут поведаны любому, кто бы изъявил желание их услышать. А желающими оказывались без малого все завидовцы. От нее первой они узнали, например, что на десятый день после Победы вернулся домой Пишка и принес с войны только один глаз, а другой оставил где-то; что Архип Архипович Колымага прихватил на лесной тропе некую молодицу, кажется, Дашутку (это Штопалиха должна еще уточнить), с вязанкою дров и, сперва припугнув, весьма прозрачно намекнул ей, на каких условиях мог бы смягчить или же вовсе сменить свой гнев на милость, но получил неожиданно энергичный и дерзкий отпор, след которого еще долго оставался на Колымажьей физиономии. От нее же, Штопалихи, узнали люди, что в отличие от Пишки Санька Шпич объявился на селе с двумя совершенно невредимыми глазами, оставив там, на боевых рубежах, каких-нибудь два или три пальца от правой руки, — пришел не один, а с каким-то незнакомым, который прозывается Виктором Лазаревичем Присыпкиным; что Артем Платонович Григорьев, то есть Апрель, после недавней смерти Прасковьи собирается жениться, сватался третьего дня к ней, Штопалихе, но она не торопится выходить за него — боится, поскольку все ее предшественницы (а их было три) отдавали богу душу на пятый или шестой год своего замужества; что близнецам Максима Паклёникова, Петьке и Ваньке, собираются посмертно присвоить звание Героя Советского Союза — так что скоро Максиму и Елене привезут сразу две Золотые Звезды на память о сыновьях-героях; что к Аграфене Ивановне Угрюмовойг потому как она до беспамятства убивается о Григории, всякую ночь является летун (Штопалиха собственными глазами видела, как он снопом искр рассыпается на уг-рюмовском дворе), и Аграфена разговаривает с ним, будто с сыном, до тех пор, пока Леонтий Сидорович не выйдет на крыльцо и не прикрикнет на жену; что днями следует ожидать денежной реформы (эту новость Матрена почему-то прежде всего принесла в дом лесника и повергла сурового Архипа Архиповича в крайнее смятение); что в городах вот-вот отменят карточки и на продукты, и на промышленные товары, на обувку — перво-наперво, добавила рассказчица; что в германском городе (назвать его Штопалиха не решалась, поскольку язык ее не справился бы с такой трудной задачей) судят главных военных преступников, но самого заглавного главаря ихнего, Гитлера, не нашли, потому как он «на-вроде» на подводной лодке на дне морском укрылся; что Антонина Непряхина в отместку мужу родила ему чужую дочь — теперь в доме Тишкином какой уж день идет война; что к Авдотье Степановне восейка приезжала тетенька Анна, гостила три дня и все три уговаривала, чтобы она, Авдотья, смирилась, оставила своего сына Авдея и Фенюху Угрюмову в покое, не мешала их любви, но Авдотья не послушалась совета старой своей подруги, неласково спровадила ее из своего дому; что на Хуторе задохнулась в своем погребе старая Антипиха — одни говорят, нечистый ее там прикончил, грехов-то много у старухи, другие сказывают, что гас, нефта объявилась под Завидовом и вышла наружу в Антипихином погребе…
Обо всех этих и о других событиях, больших и малых, важных и ничтожных, рассказывала Штопалиха. Случаи, когда бы ее сведения не подтверждались, были редки. Однако новость, какую Матрена Дивеевна вынесла однажды из дома Степаниды Лукьяновны Луговой и распространила по селу с быстротой прямо-таки непостижимой, показалась завидовцам совершенно неправдоподобной. В самом деле, можно ли поверить, чтобы Степанида, эта тихоня, эта нелюдимка, эта недотрога, эта набожница, часами простаивавшая на коленях перед горящей и днем и ночью лампадйй, — чтобы она прижила младенца, проносила его в своей утробе все девять месяцев тайно, никем, даже самой Штопалихой, не замеченная и минувшей ночью благополучно разрешилась им?1
— Неужто не верите? — обрушив на первую же бабью стоянку ошеломляющую эту новость и видя недоверие в глазах женщин, воскликнула Матрена, крутясь вокруг своей оси, поворачиваясь пылающим лицом то к одной, то к другой пораженной слушательнице… — Как бы вы думали, от кого бы это она? — И, не ожидая ответа, заверила: — Все одно выведаю, разнюхаю. От меня не скроешься! — Зеленые глаза Штопалихи горели сатанинским огнем, так что поневоле поверишь, что от них никто и ничто не сможет схорониться.
— Можа, кума, ей подкинули ребеночка-то? — неуверенно предположила Катерина Ступкина. — Не похожа Стешка на блудную-то бабу. Это, чай, не Машуха Соловьева.
Матрена Дивеевна метнула в сторону Катерины гневный взгляд, кривая усмешка пробежала по ее лицу:
— Тебе бы, кума, не Ступкиной, а Заступкиной надо прозываться… «Подкинули»! Скажешь еще!.. Я, милая, сама спрашивала. «Чей, — говорю, — у тебя, Стеша, ребеночек-то? Не в няньки ли к Машухе Соловьевой нанялась?» — «Нет, — говорит, — Дивеевна, моя кровинка…»