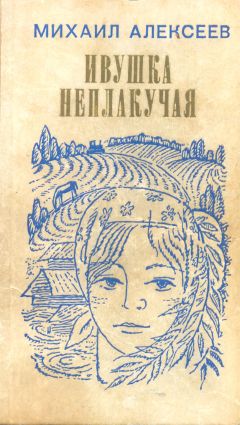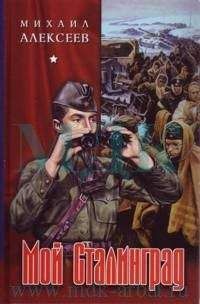Обо всех этих и о других событиях, больших и малых, важных и ничтожных, рассказывала Штопалиха. Случаи, когда бы ее сведения не подтверждались, были редки. Однако новость, какую Матрена Дивеевна вынесла однажды из дома Степаниды Лукьяновны Луговой и распространила по селу с быстротой прямо-таки непостижимой, показалась завидовцам совершенно неправдоподобной. В самом деле, можно ли поверить, чтобы Степанида, эта тихоня, эта нелюдимка, эта недотрога, эта набожница, часами простаивавшая на коленях перед горящей и днем и ночью лампадйй, — чтобы она прижила младенца, проносила его в своей утробе все девять месяцев тайно, никем, даже самой Штопалихой, не замеченная и минувшей ночью благополучно разрешилась им?1
— Неужто не верите? — обрушив на первую же бабью стоянку ошеломляющую эту новость и видя недоверие в глазах женщин, воскликнула Матрена, крутясь вокруг своей оси, поворачиваясь пылающим лицом то к одной, то к другой пораженной слушательнице… — Как бы вы думали, от кого бы это она? — И, не ожидая ответа, заверила: — Все одно выведаю, разнюхаю. От меня не скроешься! — Зеленые глаза Штопалихи горели сатанинским огнем, так что поневоле поверишь, что от них никто и ничто не сможет схорониться.
— Можа, кума, ей подкинули ребеночка-то? — неуверенно предположила Катерина Ступкина. — Не похожа Стешка на блудную-то бабу. Это, чай, не Машуха Соловьева.
Матрена Дивеевна метнула в сторону Катерины гневный взгляд, кривая усмешка пробежала по ее лицу:
— Тебе бы, кума, не Ступкиной, а Заступкиной надо прозываться… «Подкинули»! Скажешь еще!.. Я, милая, сама спрашивала. «Чей, — говорю, — у тебя, Стеша, ребеночек-то? Не в няньки ли к Машухе Соловьевой нанялась?» — «Нет, — говорит, — Дивеевна, моя кровинка…»
— Так и сказала?
— Так, так, милые. Штопалиха врать не будет. Может, я уж из веры у вас вышла? — И Матрена обиженно поджала губы, лицо ее сделалось вдруг постным.
— Да ты не гневайся на нас, Дивеевна, — пыталась поправить свою промашку Катерина Ступкина, — новость-то больно уж такая…
— Какая уж есть… — сурово заметила Штопалиха, все еще хмурясь, как хмурился бы человек, который вместо заслуженной им благодарности получил нагоняй.
И понять Штопалихину обиду можно, потому что поведала она сущую правду, то есть не то чтобы правду, а честно повторила чужую ложь. Дело в том, что Степанида не пожелала сказать Штопалихе, что ребенок подкинут, что подобрала она его глухою ночью у своего порога, — ей, Степаниде, поначалу казалось, что будет лучше, для ребенка лучше, если она выдаст его за своего и будет придерживаться этой версии всегда, до конца дней своих. Но потом передумала: скажет правду, как оно все есть, зачем навлекать на себя напраслину, развязывать по доброй своей воле чужие языки, и без того немало потешившиеся над ее бедой.
В тот же день, сопровождаемая Феней и Настенькой Вольновой-Шпичихой, взятых в качестве свидетельниц, Степанида пришла в сельсовет, решительно приблизилась к секретарю и положила прямо на его письменный стол живой сверток. Потребовала:
— Регистрируй. Теперь он не подкидыш, а мой сын. Выписывай на него метрику.
Узнав от приемной матери и ее свидетельниц подробности, секретарь спросил:
— Как назовем твоего крикуна?
— Гриня… Гринька… Григорием! — заторопилась она.
— Мне все едино, Григорием так Григорием, — сказал секретарь. — Готовь угощение, приду на крестины.
— Приходи. Рада буду! — сказала Степанида, прямо и смело глядя в веселые глаза секретаря.
Так в Завидове объявился еще «мамкин» — не сынок, а сын. Он пришел в этот мир и не знал, не ведал про то, что вместе с его появлением навсегда исчезнет с лика земли робкая, замкнувшаяся в себе, всех сторонившаяся и всех боявшаяся женщина по имени Степанида, а вместо нее будет двигаться по селу, гордо подняв голову и выпрямив стан, смелый, независимый, бесстрашный человек. И гордая ее осанка станет еще более гордой и осанистой, а ожившие глаза станут еще живее, когда однажды она услышит впервые выговоренное «ма-ма…».
Чтобы переодеться в рабочий комбинезон, старый, заляпанный мазутом и заплатками, но хорошо, уютно облегавший ладную ее фиругу, Феня попыталась незаметно для матери прошмыгнуть в чулан, где лежала эта справа, но не смогла: Аграфена Ивановна встретила ее еще у калитки и, горестно покачав головой, выдохнула протяжно свое обычное, осуждающее: «Эх, паря!» Феня быстро прошла мимо, ожидая затылком более сердитых слов, брошенных матерью вдогонку, но Аграфена Ивановна промолчала. Молча вошла вслед за дочерью в чулан, только тут заговорила:
— Что у тебя с ним?
С кем?
— Ай не знаешь?
— Не знаю… Ты, мам, не мешай мпе.
— Родная мать завсегда всем помеха, — голос Аграфены Ивановны задрожал.
— Да тороплюсь я. Неужели не видишь?!
— Вижу. Мать все видит…
Из избы выскочил Филипп, и Аграфена Ивановна замолчала.
Филипп сейчас же оценил обстановку и решил, что теперь самое время попросить мать взять его в поле. Феня обрадовалась тому, что может заговорить с другим и о другом:
— Тебе же в школу, сынок?
— Да ты что, мам? Аль забыла? Нынче же выходной, воскресенье!
Аграфена Ивановна не преминула воспользоваться и этой возможностью, чтобы уколоть старшую дочь:
— Она, мамка твоя, про все забыла… Не ходи, Филин-пушка, никуда, оставайся со мною дома.
— Нет, я с мамкой! — закричал, набычившись, мальчишка.
— Филиппа я возьму с собой, — твердо сказала Феня, выходя из чулана, — ты, чего доброго, не такого еще наговоришь ему про меня.
— И скажу, — пообещала Аграфена Ивановна, — все скажу.
— Ну и говори! — Феня подтолкнула парнишку впереди себя. — Пойдем, сынок! — Крылья ноздрей по обыкновению вздрагивали, глаза, до этого синие, потемнели. — Подожди меня на улице, я сейчас…
Вернулась в избу, под молчаливым и строгим взглядом матери увязала в платок какую-то еду, уходя, сказала придавленным, еле слышным голосом:-
— Спасибо, мама родная, за все. Но больше жить в твоем доме я не буду.
И выметнулась во двор. На испуганные крики матери не оглянулась и не отозвалась. Бледная, больно сжимая руку сына, узким проулком вышла на околицу и, лишь ступив на полевую дорогу, ведущую к тракторной бригаде, немного успокоилась, заговорила с притихшим было сыномэ
— Какие отметки-то принес?
— Марья Кирилловна тройку поставила, — мужествеп-но признался Филипп. Но, чтобы мать не слишком огорчилась, быстро пояснил: — Это она за кляксу. Ванька
Баканов плеснул мне на тетрадку, а я ему по затылку…
— Драку затеяли в школе?
— Не-э, мам, мы не дрались. Он плеснул, а я ему по шее…
— Это, по-твоему, не драка? А вот если я тебя ремешком за это?
— Не я начал, а Ванька, — оправдывался Филипп, опасаясь не обещанного матерью ремня, а того, как бы она не завернула его сейчас домой, к сердитой бабушке.
— Ты уж больше не дерись, сынок. Будь умницей. Мне ведь неколи надглядывать за тобой. Видишь, твоя мамка все в поле да в поле. И папаньки у тебя нету… — Дыхапие заслонилось, она отвернулась от сына, чтобы не видел ее лица, и стала смотреть окрест, узнавая знакомое до каждого кустика, до малейшей рытвинки и щербинки поле.
Утро было ясное, северо-восточный упругий ветерок прогнал росу, подсушил желтеющие, тихо шелестящие у придорожья травы, поднял над степью легкую зыбь, откуда-то пригнал реденькие, ослепительно белые паутинки — первые вестники приближающегося бабьего лета; они зацепились за такие же тонкие былки, повисли меж ними, готовые в любой миг сорваться и полететь дальше; одна ниточка, невидимая глазу, щекотно коснулась Фениных щек, запуталась потом в длинных ресницах, и свет в глазах раздробился, стал призрачно-непостоянным, и все в степи запрыгало, заколебалось в этом неровном свете, сделалось неуловимым.
— Ты плачешь, мам?
— Нет, сынуля. Паутинка в глаза попала.
— Давай я ее уберу.
— Ничего. Я сама. Сейчас пройдет.
Феня остановилась. Пропустила через пальцы ресничку за ресничкой, протерла глаза — свет в них установился, поле светло и радостно раздвинулось, разбежалось до горизонта, на котором явственно обозначился сперва один, а потом и второй трактор. Далекие дымки закурчавились там, послышалось глухое и частое, как сердцебиение, постукивание моторов, в расширившиеся ноздри вторгся привычный запах, вернее — множество запахов, сквозь которые настойчиво пробивался машинный, тоже не односложный, а смешанный из запахов керосина, солидола и других масел. Вместе с ними в Фенипу грудь вливалась также привычная и знакомая ей уверенность и в руках и в ногах своих, во все то, что она будет сейчас делать. Глянув на сына, сказала громко: