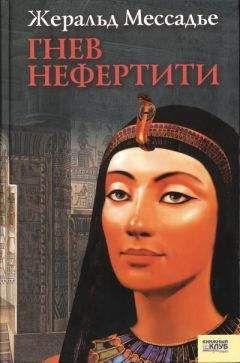— Отчего не послужить. Я всю жизнь служу. Можно и искусству.
В его руки и вручил Федор скрипку, руки темные, с въевшейся угольной пылью, раздавленные лопатой, руки с железными негнущимися пальцами, которыми старик мог починить даже дамские часики.
За два сеанса Федор написал портрет с упором на руки и на скрипку. Старик был доволен:
— Я — вылитый. Ишь, Ванек взял не свой горшок. Со скрипочкой…
Доволен был и Федор, они вместе распили бутылку.
Федор много слышал в Матёре о тех, кто подался в город, бросил землю. Отец о таких говорил только с глухой враждой. И вот сейчас с Федором сидел один из беглецов — смоленский мужичок, из такой же, как Матёра, деревни Волок. Тоскует ли он по земле? Должен тосковать, должен помнить и медовый запах клеверных полей, и золотисто-жидкую дымку над цветущей рожью…
Нет, Антон Иванович не тосковал.
— Человек на чем стоит? На ногах. А нога, брат, шаткости не терпит, ей дай опору. Без опоры ноги мешают, тут уж крылья расти. Вот и я крылышки выпростал, птицей стал. И сыновья все повылетели. В деревне-то, считай, ныне и нет нашего корня.
— А здесь у тебя опора крепкая?
— Крепкая не крепкая, а нашел местечко ногу поставить. Что моя нога — сыновья встают на обои. Мы вот еще домишко огорюем, не избу с полатями, — сами мастера.
И уловил во взгляде Федора осуждение, замучился морщинками у глаз:
— Ты и сам того — крылышками махнул. С кисточки-то, поди, каша погуще, чем с плуга. Кисточка тонка, но тоже костылек для ног. Главное — оп-по-ра!
Федор промолчал. Еще неизвестно, насколько прочная опора, которую он выбрал. Неизвестно, получится ли картина, неизвестно, примут ли ее на выставку, неизвестно, признают ли, будут ли платить на кашу — ничего не известно, висит в воздухе. И это может длиться всю жизнь, и не бросишься ради густой каши искать нешаткое место — отравлен.
До намеченного числа в календаре оставалось три листка, Федор водрузил на мольберт заветный холст.
Привычное ощущение нетронутой поверхности — картина-мечта, вызубренная наизусть, как таблица умножения. Она вместит в себя десятки этюдов, сотни набросков…
Кусок угля провел первую линию — итак, начато.
Три дня до приезда Оли. За эти три дня он сделает рисунок углем, успеет пройтись жидкой краской, закрепит… Федор не любил скрупулезно разработанного рисунка под живопись — он сковывает, кисть должна свободно жить, ей нужны лишь отправные точки, а не жесткая схема. Трех дней хватит.
Оля давно мечтала увидеть начатую картину. Так вот она — начата!
Сумерки. Федор отложил кисть в сторону. В полутемной комнате белел просторный холст, на нем проступают застывшие фигуры, ноги, косые полосы, рваные штрихи… В привычной комнате, среди примелькавшихся вещей — что-то чужое, странное, словно видение из жизни другой планеты. Две фигуры на переднем плане, ноги вверху, погруженные в небо… Пока все условно, еще изменятся фигуры, наверняка иначе станут шагать ноги…
Рука протянулась к календарю. Последний листок! Завтра!
Он так много думал о ней, что она стала представляться какой-то особой, не похожей на других — небожительницей. Почему-то казалось, что на вокзале среди толпы она будет светиться, все кругом, пораженные, станут оглядываться.
А он даже не сразу разглядел ее у вагона. В легкой косынке, в наглухо застегнутом пальто, кажется ниже ростом, до обидного простоватая, люди равнодушно не замечают ее. Но она повернулась в его сторону, еще не видя его, и он разглядел ее лицо, милое, озабоченное, чуть-чуть забытое, чуть-чуть не похожее на то, какое представлял, — обдало жаром, расталкивая народ, бросился:
— Оля!
И она вздрогнула, стала очень серьезной и строгой.
— Федя… — Почему-то удивленно сказала: — Вот вы какой!
А всего-то прошло пятнадцать дней, всего пятнадцать! И приехала от тетки из Одессы, не с фронта.
Но все сразу стало необычным. Необычно шумен вокзал, необычно криклива и радостна толпа — смеются, обнимаются, целуются, плачут от счастья, дарят цветы. И пришла в голову мысль: удивительное место — вокзальный перрон, на нем с каждым приходящим поездом — людской праздник. Великое счастье встретить близкого!
Оля охнула, войдя в столовую:
— Начал!
Он того-то и ждал, к этому-то много дней и готовился.
У порога лежали босоножки. Оля тут же надела их, раздался знакомый стук по комнатам.
Федор по привычке протянул руку к календарю и опустил — пусть висит. Нет нужды торопить время.
17Утром пили чай у начатой картины. Оля еще не могла прийти в себя. С Ольги Дмитриевны сошло праздничное настроение — на лице привычное спокойно-суровое выражение, она уже мысленно была на работе. Темный облегающий костюм, глухая белая блузка до подбородка, застегнута каждая пуговица — так одеваются педантичные старые девы или женщины-службисты, заменившие наряды раз и навсегда принятой формой.
Оля радовалась, что Федор много сделал. Ольга Дмитриевна прервала ее:
— Ему бы следовало сделать небольшие каникулы. Говорю как врач.
— Он и правда плохо выглядит, — упавшим голосом согласилась Оля.
— Бросьте на время и отдохните.
— Не могу, — ответил Федор.
— Почему?
— Буду сходить с ума.
Ольга Дмитриевна осуждающе покачала головой:
— Сколько энергии, сколько сил растрачивается людьми и…
— И?.. — насторожилась Оля.
— И для чего?
— Но разве это не важно, не нужно? — возмутилась Оля.
— Сейчас? В наши дни?.. Сомневаюсь. Если б эта упорство направить на другое…
— Например, пахать землю, — подсказал Федор. — Это мне уже говорил мой отец.
— Он, наверно, не так уж далек от истины…
— Мама! Свою-то работу ты не считаешь бесполезной?
— Моя работа… Нас много, но нас не хватает, мы выбиваемся из сил, лечим, лечим, а болезней не убывает. Вот бы куда бросить силы! Мне порой кажется, что вот уж без малого тридцать лет я отчаянно сражаюсь с гидрой, срезаю ей головы, а они растут. А почему? Да потому, что люди нередко живут еще по пяти человек в комнатушках на шести квадратных метрах. Отсюда — грязь, анемия, неврастения, пьянство, травмы при драках. Жизненно необходимого нет. А полные сил, с избыточной энергией члены общества, получившие высшее образование, или совсем не производят никаких ценностей, или, простите, вроде вас производят ценности эфемерные. Ваш отец говорит — пахать землю?.. Нет, быть агрономом — инженером, техником, ученым-экспериментатором! Великий отряд интеллигенции, творящей то, что практически нужно сейчас, сегодня. Вот тогда-то придет быстрее тот день, когда, как хлеб, как воздух, понадобятся ваши картины. А пока… Пока рано… Вы создаете самолет, когда еще не изобретен ткацкий станок. Берегитесь! Время мстит торопливым.
Ольга Дмитриевна отодвинула от себя пустую чашку, собиралась уже подняться из-за стола. Но Федор переспросил:
— Великий отряд, служащий народу?
— Да, служащий, да, сгорающий для него, да, отряд образованных людей, понимающий насущные задачи и решающий их.
— Как он велик, этот отряд?
— Чем больше, тем лучше.
— А все-таки — максимально? На двести миллионов населения — сколько вы прикидываете?
— Десять миллионов, двадцать… Не знаю.
— Значит, один человек будет понимать задачи, решать их, а десять или двадцать — не понимать?
— Их дело — заставить других в конце концов понять.
— Ага, понять! Тогда почему вы отвергаете искусство? Язык искусства — что может быть впечатлительней, ярче, действенней? Самые логические, самые умные, но отвлеченные высказывания не смогут идти в сравнение по силе воздействия. Вы отсылаете искусство в прекрасное будущее, а оно, пожалуй, нужней нам — сегодня.
— Ну как, мама? — спросила Оля, с ласковой ехидцей заглядывая ей в глаза.
Ольга Дмитриевна помолчала.
— Заставить понять… — повторила она. — Заставить… можно только через что-то материальное. В моем отделении нянечка ворует обеды у больных, я ее пробовала воспитывать. А она получает такую мизерную зарплату, так изворачивается, чтобы свести концы с концами, что не так-то легко ее воспитывать — сам воспитатель поставлен в сомнительное положение. Прежде чем воспитывать, все-таки надо накормить человека, одеть, обуть, поместить в приличное жилье. А ваше искусство этого не дает. Невольно вспомнишь пословицу: «Сухая ложка рот дерет».
— Вы хотели перевоспитать нянечку, одну нянечку в отрыве от всех. Если весь род людской воспитывать от нянечки к нянечке, поодиночке, в розницу — вряд ли будет польза.
— Все-таки дайте сначала всем хлеб с маслом, потом воспитывайте.
— Но чтоб добыть этот хлеб и масло, чтоб правильно их распределить, нужно определенное сознание. Все-таки придется начинать с изменения человека. Простите, но такие подвижники вроде вас, пытающиеся заманить народ в прекрасное будущее куском хлеба, густо намазанным маслом, — утописты. Они походят на невежественного врача, который собирается вылечить оспу, делая припарки к наружным болячкам.