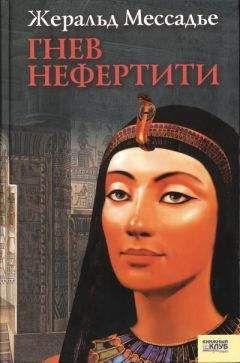Федор делал вид, что не замечает креста. Он прихватил с собой палитру.
Лохматая лошаденка лениво выступала, низко навесив заиндевелую морду, сосредоточенно глядела в накатанную дорогу, словно шаг за шагом что-то искала — что-то безнадежно утерянное.
Возле саней с вожжами в руках шел паренек, четырнадцатилетний сын Опенкина, того самого, на которого смахивал Ван Гог Саввы Ильича. За санями шагали трое — мать Федора, на время переставшая утирать красные глаза, но поминутно скорбно вздыхающая, отец Федора в своей вытертой рыжей шапке и Федор. Деревня Матёра была равнодушна к смерти человека, который был для нее всегда чужаком.
У обочины дороги стояла пятитонка с задранным капотом, двое парней на морозе копались в моторе. Они оторвались от работы, недоуменно повернули красные лица в сторону жалкой процессии. Федор услышал, как один сказал другому:
— Ну и ну, под сурдинку какой-то словчил.
Еще вчера разнеслась весть, которую тревожно ждали все, — умер Сталин. До Матёры еще не дошли газеты с траурной каймой.
Скучный деревенский погост с торчащими из нетронутого снега покосившимися крестами. Летом здесь жестоко припекает солнце, зимой свирепо воют метели. Деревенский погост, убежище многих поколений землеробов. На окраине его — рыжее крошево мерзлой глины на белом снегу, веющая ледяным холодом яма.
Не было речей, не было даже произнесено — «прости». Только сползла с розвальней бабка Марфида, припала к доскам гроба, мать Федора смахивала слезы варежкой. Федор стянул шапку с головы, за ним отец обнажил седины, за отцом — шмыгающий простуженным носом парнишка Опенкин.
— Чего уж… Возьмемся помаленьку, — произнес отец.
Натянули шапки, взялись за веревки, потом за лопаты…
Бабка Марфида тихо скулила, сидя на снегу. Мать Федора старалась ее поднять…
Над ярко-рыжим холмом средь истоптанного снега встал крест, на котором химическим карандашом выведены скупые слова: Савва Ильич Кочнев, год рождения и год смерти.
Федор взял палитру, на ней осталась еще краска, замерзшая сейчас на морозе. Палитра, с которой Федор работал над картиной, работал он с нею и над единственным портретом Саввы Ильича — даже краска осталась.
Гвоздями накрепко прибил палитру к кресту. Надпись на кресте сообщит имя и фамилию человека, но она скоро смоется дождями. А палитра расскажет о том, что похоронен художник. Неизвестный художник, достойный такого же почтения, как и неизвестный солдат.
Он не потряс мир шедеврами, его имя не вспомнят даже самые дотошные исследователи, и все-таки его жизнь не прошла бесследно — он повинен в том, что на свете появился еще один художник. Как знать, без него, наверно, топтал бы землю человек, быть может, неплохой, быть может, по-своему полезный людям, а все-таки без призвания. А великое дело открыть призвание — одним творцом на земле больше.
Низко плавало солнце в морозном предвечернем мареве. Его жидкие лучи обжигали щеки холодом. На свежевыструганном кресте распята палитра, бабке Марфиде это ничего не говорит, а Федору напоминает — путь художника тернист.
Нет Саввы Ильича, есть он, Федор. И Федору не на что жаловаться — его ждет почти оконченная картина, ждет близкая победа, есть силы, несокрушимое здоровье, талант, есть преданность своему труду и, наверное, есть дерзость. Не на что жаловаться!
Но беспокоит мир, ни мало ни много беспокоит судьба планеты. Лежат в хранилищах супербомбы, они могут вырваться из заточения, обрушиться на материки — огонь, пепел, разъедающая все живое зараза радиоактивности. Накалены страсти в мире. И умер вчера вождь, и миллионы людей сейчас, в эту минуту, задают себе вопрос: что дальше?
Что дальше?.. Федору кажется, что мир похож на того молодого солдатика, который вглядывался в лысый склон, пропеченный солнцем. Тогда солдат победил смерть; он живет до сих пор, готов торжествовать новые победы.
Лошадь тронула с места сани. В молчании пошли обратно к деревне. Крест с палитрой остался за спиной.
А в Москве, в Колонном зале, среди венков и часовых над сумрачным восковым лицом веяла траурная музыка. Люди вглядывались в будущее.