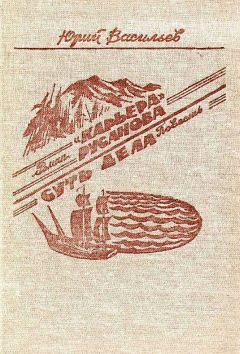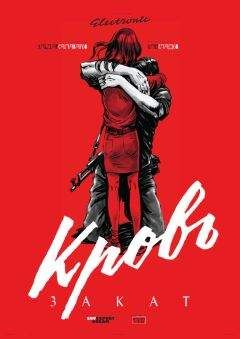— Дорогой Виктор Николаевич, — сказал Гусев, надеясь, что короткое знакомство Ремизова с его дочкой дает ему право на некоторую вольность, — я очень прошу… Крайняя производственная необходимость… Дней за десять вы уложитесь?
Ремизов посмотрел на Гусева с участием. Даже, показалось ему, с жалостью.
— Некоторые называют нас шабашниками, рвачами, охотниками за длинным рублем. На самом же деле мы просто хорошо организованный, дисциплинированный коллектив. Поэтому вы получите объект через четыре дня. Вас это устраивает?
— Меня это очень устраивает, — сказал Гусев и подумал, что сейчас, хотя бы вежливости ради, следует поинтересоваться целью их экспедиции, но он не знал, как это сделать, да и некогда было. — Меня это вполне устраивает, — снова повторил он. — С вами можно иметь дело.
— С нами стараются иметь дело в случае крайней необходимости, — сказал Ремизов. — Кстати, передайте Оле мою искреннюю благодарность. Каким-то чудом ей удалось раздобыть экземпляр журнала «Русский следопыт», где упоминаются очень важные для меня сведения… И пожалуйста, достаньте мне ацетона. Жесть, как я понимаю, уже была в употреблении, надо смыть краску. Иначе она окислится, появится запах, и вас опять прикроют.
Гусев зашел в малярку, где хозяйничала сызмальства обиженная на весь мир тетя Нюра, и бесстрашно попросил у нее канистру ацетона. Попроси кто другой, она бы и глазом не повела, но Гусев в прошлом году переделал ей старинную зингеровскую машинку на электрический ход, и с тех пор она ему даже улыбалась. «Доброе дело не ржавеет», — сказал он себе, когда мужики шустро подхватили канистру, и заторопился в отдел, но у самой проходной столкнулся с Балакиревым.
— Только и отдохнешь, когда тебя взрежут, — сказал он, пожимая Гусеву руку. — Да и то не отдыхается. Мне еще десять дней, велено соблюдать режим.
— А чего ж не соблюдаете? — не очень приветливо спросил Гусев.
— Соблюдаю. Мне предписали гулять, а где — не уточнили… О делах ваших наслышан. Одобряю! Вы, оказывается, еще и хозяйственник. Где вы раздобыли жесть? Это снабженческий подвиг.
— Занял. Под ваши фонды и под свое честное слово.
— Солидное обеспечение! — улыбнулся Балакирев. Настроения у него было хорошее. — Справитесь со своей… э… таратайкой, — он произнес это слово нарочито шутливо, как бы подчеркивая, что он, конечно, понимает: дело важное, гуманное, но, между нами говоря, не столь уж грандиозное, — справитесь со своей коляской, тогда можно будет серьезно подумать о цанговом патроне.
— А зачем о нем думать? Он существует, теперь ни я, ни вы ему не хозяева.
— Я понимаю, понимаю… Вы читали выступление секретаря обкома? Он снова повторил, что внедрение — самое узкое место нашего производства.
— Я всегда удивляюсь, зачем повторять общеизвестные истины, — оказал Гусев, но тут же решил, что сейчас ему лучше помалкивать, не задираться. — Читал, конечно. Интересное соображение, — и чтобы уж совсем перевести разговор на нейтральную почву, добавил. — Как самочувствие? Операция хоть и пустяковая, все-таки операция.
— Чепуха, — отмахнулся Балакирев. — Мне когда нарыв вскрывали, хуже было… Сестра у вас, Владимир Васильевич, изумительный человек, истинная, знаете ли, сестра милосердия. Так ей и передайте!
«Вот я уже и сестрой прикрыт, — сказал себе Гусев. — Укрепляю тылы. Хорошо бы половину завода пропустить через операционную палату, все такие покладистые будут…»
— Я передам, — кивнул Гусев. — Ей будет очень приятно.
— И характер у нее прекрасный, — значительно, хоть и с улыбкой, добавил Балакирев. — Мягкий, ровный, спокойный характер. Не как у некоторых. — Тут он откровенно рассмеялся. — А?
— Она воспитанный человек, — согласился Гусев.
«Я тоже воспитанный. Мягкий, сговорчивый. Меня сейчас к чему угодно можно приспособить». Ему стало не по себе, и, чтобы не сболтнуть чего лишнего, он вдруг ни с того ни с сего сказал:
— Зачем вам, Дмитрий Николаевич, через меня, человека ненадежного, передавать Наташе свою признательность? Приходите в гости. Можете купить цветы. Это будет выглядеть вполне пристойно. Хотя, конечно, мое приглашение можно расценить как попытку завязать дружеские отношения с главным инженером. Можно ведь, правда? Но вы человек умный, вы поймете…
— А вы знаете, приду, — сказал Балакирев и как-то странно посмотрел на Гусева. — Даже несмотря на такое необычное приглашение. — Он снова посмотрел на Гусева. — Мы ведь, в сущности, Владимир Васильевич, совсем не знакомы. А?
— Совсем не знакомы, — подтвердил Гусев.
— Вот видите… Надо исправлять это ненормальное положение. Ждите с визитом! — Он протянул руку. — Пойду гулять дальше. — И свернул к электроцеху. «Глупостей я, кажется, наговорил предостаточно, — подумал Гусев. — Балакирев небось сейчас идет и голову ломает: то ли я придурок какой, то ли еще чего похлеще».
Балакирев действительно думал о Гусеве.
Он думал о том, что ему, Гусеву, главный инженер представляется по меньшей мере ретроградом — сейчас любят это словечко, — человеком осторожным, без фантазии, без полета — такие определения нынче тоже в ходу. Балакирев, ближе других стоящий к кормилу технического прогресса, должен, в понимании Гусева, первым, очертя голову, с восторгом кидаться навстречу любому всплеску творческой мысли, должен лелеять и холить ее нежные всходы, из которых со временем может вырасти нечто могучее и кряжистое… А стоять у кормила — ох как хлопотно и непросто! Корабль загружен, он тяжело рассекает воду, его качает на волнах, и что будет, если по первому крику впередсмотрящего: «Земля!» или «Эврика!» он, стоящий у руля, примется дергать корабль туда и сюда… Балакирев усмехнулся: это, должно быть, Гусев подвигнул его на столь цветастое сравнение… Ох, Гусев, Гусев! Знал бы ты, Гусев, что Балакирев четыре года работал экспертом в патентном отделе, у него от изобретателей нервный тик появился, язва желудка. Он такого насмотрелся и наслушался, столько раз едва увертывался от летящих в него тяжелых изобретательских снарядов, что до сих пор не может оправиться. И до сих пор не очень представляет себе, где находится тот заветный пятачок, на котором утверждает себя истинный новатор, а где ничейная полоса, на которой произрастают невежество, амбиции, делячество, иногда просто болезненная одержимость. Очень трудно разобрать, когда и вправду «эврика!», а когда просто вопль ущемленного самолюбия…
Гусева он разглядел. Не сразу, правда. Говорят, что поэтов бог целует в уста. Гусеву, безусловно, тоже был оказан всевышним какой-то знак внимания. Это заметить не трудно. Трудней работать с такими отмеченными богом людьми…
На стене электроцеха висел только что изготовленный лозунг, призывавший бороться за новую форму организации труда — сквозную производственную бригаду. Балакирев вздохнул. Будем бороться. Раз есть такая инициатива, значит, придется ею переболеть. Можно, конечно, воспротивиться, но как подумаешь, сколько на это уйдет нервов, противиться не хочется. Сделаем, а когда не получится, скажем: «Поторопились, не учли». И те, кому положено, увидят, что да, действительно, товарищи хотели как лучше, но не вышло у них, ошиблись, все иногда ошибаются…
Ему было грустно так думать, но по-другому он думать не мог. Тяжелый маховик кампанейщины, если уж он раскручен, гудит угрожающе: не хватайся за обод, пальцы оторвет… Ему, главному инженеру, стыдно говорить такие слова, только нет у него желания лезть на рожон: ему нужно осваивать выпуск широкозахватных скреперов и шахтных подъемников, и если даже Гусев — ершистый, задиристый Гусев, каким он ему представлялся, если даже сам Гусев легко согласился поддержать очередную показуху, значит, и он понимает: не надо зря расходовать пар.
Но было у Балакирева и оправдание. Когда уж очень становилось не по себе, он говорил, что скоро, судя по всему, положение изменится, станет ясно, что ни латанием дыр, ни усовершенствованием старого, ни энтузиазмом, как бы искренен он не был, изменить существующее положение нельзя — нужная коренная перестройка. Вот тогда он сможет сказать свое слово. А если его к тому времени — за неисполнительность — уберут, он этого слова сказать не сможет.
«Выжидаешь? Отсиживаешься? Нет, — отвечал он себе: — Реально смотрю на вещи…»
Вечером, как договорились, вентиляцию опробовали на ходу. Деятельный подрядчик Ремизов брался сделать за четыре дня, за четыре и сделал, это называется — график. Никаких тебе перевыполнений, никаких дерганий — все точно рассчитано. Замечаний не было. Ремизов, выключив рубильник, сказал:
— По всем правилам положено магарыч с вас потребовать, но мы люди сознательные, мы не будем.