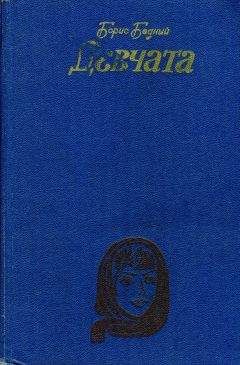Да, и Катерину тоже. Она хоть и отодвинулась от них, чтобы не мешать им тут миловаться возле кривой груши, но Степан снова знал, что из своей дали она видит все, что у них тут творится возле горькой этой кривули. Но теперь Катерина переменилась к нему. Она окончательно уверилась, что он не скажет заветных тех слов чужой женщине, — и сразу успокоилась, совсем перестала ревновать его к Манице.
Катерина потому, может, так легко и простила ему все, что знала твердо: ничего у них с Маницей не выйдет, зря только они время проводят. А если даже они пересилят себя и сговорятся, то все равно это будет совсем не то и не так, как бывало когда-то у них со Степаном. Она вроде бы силу свою почуяла и с высоты этой силы смотрела теперь на Степана почти уже не печальными, а все понимающими, спокойными от сознания своей власти над ним, все заранее простившими ему и даже чуть насмешливыми уже глазами, будто сказать ему хотела: «Вот ты какой! Ну, порезвись, порезвись…»
И со всеми нынешними его насильными ласками, со всем непотребством его она тоже легко смирилась, как мирилась когда-то прежде с тем, что Степан, случалось, выпивал иногда лишку со своими дружками или совершал иной малый проступок, в котором потом сам же первый и каялся перед ней, вымаливая себе прощенье.
В последний раз, зная уже в глубине души, что ничего у них с Маницей не выйдет, да и выйти никак не может, Степан крепко стиснул ее плечи, будто помощи у нее просил. Он знал, что ей больно сейчас, но Маница вытерпела, только украдкой легонько перевела дух, — то ли приучена была в свое время старшиной к таким же медвежьим ласкам, то ли Степана постеснялась огорчить. И Степану напоследок понравилось, хоть и не нужно ему теперь все это было, что Маница такая терпеливая, не ноет по пустякам. Но даже и здесь она была всего лишь похожа на Катерину и, сама того не ведая, только повторила ее сейчас.
Всюду была Катерина — и никуда ему от нее не уйти, не спрятаться, да ему и прятаться уже расхотелось.
А Маница, что ж Маница… Она, может, и хотела ему помочь, да никак не могла, не знала даже, с какого края приняться. Впрочем, и он сам тоже ничем не мог ей помочь.
Степан разжал руки, выпустил Маницу и как-то сразу вдруг успокоился, будто до конца довел трудное и неухватистое дело и не его вина, если дело это не выгорело: он не щадил себя и сделал все, что только мог. Ему надоело притворяться перед Маницей и насиловать себя. Он бережно отодвинул Маницу в сторону и старательно обошел ее, точно больше всего боялся теперь невзначай дотронуться до нее, и, не разбирая дороги, зашагал прочь, в темень сада.
За спиной Степана зашуршали шаги. Ему не хотелось сейчас видеть Маницу, стыдно было за недавние свои дешевые поцелуи, за то, что он чуть не силой пытался навязать ей себя. Степан надеялся, что Маница уйдет в дом, но она догнала его и молча пошла рядом. Неужели она так ничего и не поняла? Или боится оставить его одного?
Встречная пружинистая ветка больно хлестнула Степана по щеке и заколыхалась в темноте. Он машинально поймал ветку и придержал ее, чтобы та не ударила Маницу. И сразу же точно только этого и ждала, Маница остановилась и нерешительно коснулась рукой его плеча.
— Не горюй, Стэпан, — сказала она тихо и мягко, словно просила оказать ей последнюю услугу. — Не надо, не горюй. Никто не виноват… Война.
Выходит, и она все понимает не хуже его. И тогда понимала, возле груши, когда он целовал ее. Потому, может, Маница так хорошо и понимает его, что и с ней самой творится то же самое. Зря он думал, что все дело в природной ее холодности. Просто общего у них гораздо больше, чем он прежде видел. Оба они понадеялись на свои силы и попытались так легко, чуть ли не с ходу, выскочить из затяжной своей беды, не понимая, что их прошлое, дорогие им люди, все еще крепко держат их и не отпускают от себя.
Наверно, кроме всего прочего, ничего у них не вышло еще и потому, что Степан прежде всего видел в Манице друга по несчастью, обездоленного, как и он, войной, а уж только затем — женщину…
Маница робко провела рукой по его щеке и тут же отдернула руку, словно сама испугалась своей смелости или того, что Степан может неверно ее понять. И снова, будто ее магнитом притягивало, коснулась его щеки и сказала ласковей прежнего, точно не взрослого мужчину утешала, а несмышленого младенца:
— Не горюй, не надо… — И добавила тихо, на одном дыхании: — Пусть так… Так тоже живут.
Она гладила его по плечу и щеке уже не таясь, словно спохватилась вдруг, что он уйдет, а она так и не сможет израсходовать весь запас нежности, который накопился в ней с того далекого дня, как ушел ее старшина на войну. Похоже, после того как Степан растревожил ее поцелуями, ей трудней стало сдерживать себя и не давать этой затаившейся нежности ходу. Маница, может, и не его вовсе видела сейчас перед собой и ласкала, а старшину своего сурового, убитую мечту свою — дождаться его возвращения и сполна отдать всю ласку ему…
Они с Маницей, может быть, и сладились бы, если б хоть один из них смотрел на жизнь полегче, был бы побойчей, поискушенней в таких делах. Уж больно похожи они друг на друга — и не только судьбой своей, но и всеми повадками. Вот и хотели они переступить через себя, совсем было собрались, да не хватило у них силенки. Никогда прежде не думал Степан, что в далекой Абхазии, на теплом этом берегу, живет чуть ли не его двойник, да к тому же еще и женщина. И может, не только здесь, а и в других местах схожие с ними люди живут. Страна у нас большая, и берегов у нее много — и теплых, и холодных, и всяких иных. А уж деревень вроде той же Ольховки или этой вот Юриной деревни, названия которой никак не мог запомнить Степан, и того больше…
И Степан как-то разом вдруг понял, что Маница лучше, душевней, чем он о ней прежде думал. И не столько мужик ей нужен, сколько верный человек, на кого можно до конца положиться, с кем можно пройти душа в душу остаток своей жизни.
Да и он сам, если на то пошло, тоже напрасно пытался перебороть себя и перешагнуть через лучшее в себе. Выходит, плохо они себя оба с Маницей знали. И уж ради одного того, чтобы узнать себя поближе, им стоило сходить в ночной сад и покараулить кривую грушу…
Он так хорошо понимал сейчас Маницу, будто вся их несостоявшаяся семейная жизнь — со всеми возможными для них тихими радостями и неизбежной, скрытой из боязни обидеть друг друга глубокой печалью — наяву прошла перед его глазами. Степану и радостно стало, что на свете так много хороших людей, — гораздо больше, чем он думал. И тут же тоска охватила его, даже сердце заныло от боли: ему-то теперь не только не легче станет жить на свете, а еще и потрудней прежнего. Ведь мало встретиться с хорошим человеком, чтобы самому быть счастливым.
А Степану с новой силой счастья захотелось — совсем уж несбыточного, какое у него могло быть с одной лишь Катериной. Слепая эта жажда была так велика, что снова, как два года назад, когда Степан из письма деда Василька впервые узнал, что семья его погибла, — снова не поверил он этому. Не могло этого быть, никак не могло. Просто не было этого — и все. Но неподвластная ему память тут же высветила порушенную Ольховку, оплывший холм братской могилы в овраге, — и вся невозможная эта правда снова настигла Степана и навалилась на него…
— Пойдем домой, — сказала Маница и первая шагнула навстречу празднику, что все еще шумел и горланил в доме.
И Степан послушно шагнул за ней, догнал и пошел рядом.
А может, просто поторопились они с Маницей? И не спеши они так, выжди подольше — и жизнь взяла бы свое и все у них сладилось бы? Что ж, может, и так. А теперь идти им по жизни врозь. Да и просто не годится теперь Степану жить под одной крышей с Маницей.
Ему припомнилась вдруг давешняя его задумка о том, как они с Маницей построят себе домишко и заживут самостоятельно, чтобы никому не докучать, — и Степан подивился недавней своей слепоте. Ишь, как он разбежался! А когда шаркали они ногами у крыльца, чтобы не тащить грязь в дом, совсем уж зряшная мыслишка шмыгнула у Степана: Манице так теперь и не узнать, что означает непонятное ей русское слово — разговеться. Сама она теперь не спросит, а ему и подавно негоже просвещать ее по этой части.
11
Они поднялись на веранду. В доме по-прежнему гремела музыка и топали неустающие, прямо-таки моторные танцоры. За время, что они были в саду, ничего тут не изменилось, вот только веселье размахнулось еще бесшабашней, набирая нетрезвую силу.
Степан машинально остановился у того столба, где они и прежде стояли с Маницей. Он думал, что Маница сразу же уйдет в дом, а она прислонилась к столбу с другой стороны и даже вполоборота к Степану повернулась — как и до прогулки стояла. То ли случайно у нее так вышло, то ли нарочно на прежнем месте она обосновалась, чтобы легче им было войти в накатанную свою колею и поскорей позабыть прогулку в сад.