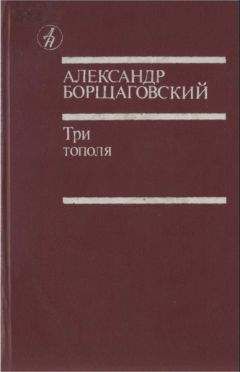— Идет! Ног под собой не чует! — сказала Саша серьезно. Она на миг отвлеклась от него, взгляд устремился за реку, на холмы, где спали ее дети, на бледном лице мелькнула тень неведомых ему забот. — Только бы она к хорошему менялась: чего нам еще. Я, видишь, бабой сделалась, не в подъем. Двое у меня — я старая, и у мужа двое, а он молодой. Ну, гляди, гляди на меня, как надо мной года похозяйничали.
Он и без приглашения не отрывал глаз от Саши, поражаясь тому, что голос ее остался прежним, грудным и в то же время певучим, легко сходящим на хрипловатый шепот, а вся она погрузнела, отяжелела, складки легли на высокой шее, грубее сделались руки, только щиколотки над разношенными босоножками оставались тонкими и сухими. Перед ним была женщина с усталым лицом и с нездоровой припухлостью под рыжими, в жестких белых ресницах, глазами. Натруженные руки далеко вылезли из рукавов трикотажной кофточки, платье не закрывало полных коленей, ситцевая светлая косынка туго охватывала голову.
Я и ем-то чуть, а, видишь, пухну… — Она легко, без кокетства и сожаления отдавалась на его милость. Ведь не он застиг ее в затрапезном, Саша сама примчалась, только сбросила на ограду загона серый, казенный халат. — Третьего рожу — совсем клухой стану. Двое у меня.
— Знаю.
— Чего ты знаешь! Только и знаешь, что двое. — Она жалела его незнание, его непричастность к какому-то ее празднику, ее радости: Саша и впрямь казалась старшей, истомившейся в разлуке сестрой. — Мальчики у меня.
— Мальчики — хорошо.
— А я девоньку хочу: без нее не уймусь. Одна беда — родами зубы теряю. Во-о! — Она мизинцем оттянула губу, показала зазор в ряду выпуклых, плотно посаженных зубов. — И с той стороны.
— Недорогая цена, Саша. Ты и сама знаешь.
Вязовкина пригляделась пристальнее, голос Капустина насторожил ее: в чем его забота, с чего эту пасмурность нагнало?
— Кидай шпиннинг, а то зорьку прозеваешь! — засуетилась Саша, подходя к нему; шаг ее остался таким же легким, с чуть откинутой назад спиной. — Обо мне не думай, я мешать не стану, может, еще удачу принесу.
Саша приблизилась, и он увидел, ощутил неподвластным воле толчком крови, что она стала лучше, чем прежде, и не постылая бабья, загнанная тяжесть в ней, а сила и свободное дыхание; созрела женщина, пришла соразмерность, женская мягкость и гармония, а в рыжих, медовых глазах открылась новая глубина, и там намешано всего — и счастья, и тоски, и боли. Он отвернулся, привычно занес спиннинг, качнул в воздухе блесной и грузилом, но не бросил, раздумал.
— Все! Хватит.
— У Вани рыбы возьми: у них со свекром сетка в «тихой», ты на ней и оборвался. Иван даст, он добрый.
Надо возвращаться. Воронок всем успел разболтать, что приехал «беглый учитель» и с ходу оборвался на прокимновской сети.
— Знала я, что ты сюда придешь, — вернулась к прежнему Саша, но уже без игры и улыбки, даже сожалея о чем-то. — У плотины народ не по тебе, нахальный.
— Может, и я нахальный стал.
— Не-е-ет! — протянула она с тайной радостью, словно это касалось и ее жизни. — И захочешь — не сумеешь. То-то и горе.
— В чем же тут горе?
— Что толкаться не можешь и своего, того, что тебе от бога назначено, не возьмешь. Я тебя прежде, дурочка, не понимала, когда любила тебя…
— Какая же это любовь, Александра! — пытался он защититься от ее прямоты.
— Самая первая! — воскликнула она. — Я и сама не сразу поняла, а уж потом, когда ты уехал, а я тебя бояться перестала… Вот тогда и вспоминать стала и жалеть. Я и отца так часто не вспоминала, как тебя, представляешь? Теперь своим домом живу, спины не разогнуть, а я все жалею тебя, думаю: как твоя жизнь?
В ее словах не было умысла, только правда и диковинная потребность высказать эту правду, облегчить душу.
— А жалеть меня зачем, Саша?
Наступил ее черед удивляться: неужто он не понимает? Годы живет отдельно от нее, от Оки, в скудости душевной — и все не понимает?
— Что ты без меня остался, Алеша! Как ты измучился тогда, а я уперлась, себя перехитрила, тебя обманула. — Она смотрела исподлобья, некрасиво оттопырила губы, заколебалась вдруг — говорить ли ему, непонятливому, о серьезном. — Думаешь, я хвалилась тобой? Отцу не сказала, а чужим и подавно: кто поверит, что ты любил меня, сватался?!
Рядом стояла прежняя Саша, непритворная, бесхитростная, и на миг он ощутил и себя прежним, потерянным, беззащитным перед ней, будто возвратилась давняя ночь в саду, близость Саши, ее доступность, и в доступности этой не грех, не прихваченный походя кусок, а счастье. И, сердясь на себя, защищаясь от Саши, он забормотал глухо и жестко:
— Меня чего жалеть? Глупости! Я жив. Женат. Все ладно, Саша. Я тут с женой, с Катей.
Руки Саши осторожно легли на его плечи. Она прижала его, ошеломленного, к груди, коснулась сухими, напряженными губами его щеки и зажмуренных глаз.
— Вот и свиделись… Теперь свиделись, — сказала Саша, волнуясь, и отпустила его. — Не злобись, так надо. На душе легко стало, и зла друг на дружку держать не будем. Я и жену твою люблю, веришь?
— Верю. Зачем тебе лукавить?
— На Ваню не оглядывайся! — Она без опаски смотрела туда, куда украдкой взглянул Капустин. — Неужто родную душу приветить нельзя?
— А если побьет? — плоско отшутился Алексей: никак ему не попасть в ее чистый, простой тон.
— Стерплю! За дело чего не стерпеть? Безвинного наказать — вот грех… Что же мы все стоим? — Саша огляделась: на узкой отмели ни камня, ни плоскодонок, на которых прежде переправлялись тут доярки, только травянистый, карнизом, бугор позади, подмытый в половодье. Она повела туда Алексея, сбросила кофту и постелила ему. Их было видно отовсюду, от просторной ожившей реки, от ряжей под электростанцией и от фермы. — Мне давеча приснилось, будто я в магазин залезла, не к прилавку, а в склад к Нинке и ухватом по бутылкам! Вино бью, белое, красное, что под руку попадет, а Нинка ругается и пишет, всякую бутылку в книгу пишет — на ней-то все числится, ей отвечать. Ящиками уже его крушу, подниму ящик и об пол, а Нинка в крик: «Что ж вы, окаянные бабы, делаете?.. И в Федякине бьют, и в Новоселках, и в Пощупове тоже, какое добро переводите!..» Прислушалась я, и правда, повсюду звон идет, бабы вино бьют, куда ни глянь — стекло битое, и не думай пройти разувшись… — Она улыбнулась. — Все мы во сне храбрые!
— Что ж ты на ферму не спешишь? — Над поймой показалось солнце, багряный, еще не опаляющий глаз круг. С лица Саши смыло усталость, словно она только и ждала этого мига, глаза сделались прозрачно-янтарными, с нежным, розовым подсветом, заметно проступили ворсинки над губой и у висков. — Тебя в газетах хвалят, мне Цыганка писала.
— Ага! В люди выхожу! — охотно откликнулась Саша; о ней, значит, помнят у Капустиных, в письмах поминают. — Пишут в газетах, а я при чем: я свое дело как делала сперва, так и теперь. Это мне за недосып премия. Я скоро побегу. — Она озабоченно огляделась. — Мальчиков моих посмотришь?
Он кивнул.
— Младшенький в тебя. Не лицом, глаза у него такие, смотрит, будто все понимает… Этот учиться будет.
— Хорошо, хоть не старший в меня! — сказал Капустин, и Саша подумала, что обида еще не вся ушла.
— Тот в Ивана: одно лицо. Под вечер я их на плотину приведу: ты к ночи выйдешь или обленился, к бабе под бок? — Она заглянула ему в глаза допытливым, вопрошающим взглядом. — Луну нынче видел?
— Куда от нее денешься!
— Иной рыбак ночь под ней простоит, а глаз не поднимет: даром досталась, чего пялиться! Все по воде шныряет, добычу не упустить. — Капустин молчал, и Саша спросила: — Жена твоя умная, верно, и красивая?
— По мне — да. Очень.
— А я, Капустин, все позабыла, чему ты меня учил. Уходит из памяти, просто беда. Плохо это? — И поспешно ответила сама себе: — Знаю, что плохо. Нас теперь телевизор учит: хоть держался бы, а то пойдет полосами, рябит и рябит. А слыхать все… — заступилась она за свой телевизор.
— Дело не в том, Саша, чтобы все помнить: я старался научить вас думать, лучше понимать жизнь. Не всем же в ученых ходить, будь хорошим человеком, чего лучше.
— А хороших много! — поспешно сказала Саша. — Девочкой я и не думала, сколько их кругом, в обиде была на всех за отца. Я ему красивый камень поставила, а матери твоей колхоз ставил, Цыганка только рябины высадила. Они первый раз ягоды дали, зимой огнем горели, когда снег лег. И птицы все кружили, горлицы парами прилетали… — По-прежнему отец был для нее самым дорогим существом, теперь только от Нее и ждавшим защиты. — Я тебе велосипед приведу, — поразила она Капустина внезапным поворотом мысли. — Хватит, постоял на чердаке.
— Куда он мне! — взмолился Капустин. — И проржавел, ты сама говорила.
— Другие я уж подкинула и тебе верну, со всем светом будем квиты, никто на Вязовкина и в мыслях не погрешит. — Она поднялась, затеребила из-под Капустина кофту, вскинула ее высоко, то ли отряхивая, то ли подавая знак Ивану. — Побегу на ферму, а ты покидай, самое время… А то иди, Ваня даст рыбы. Неужели учителю не даст?