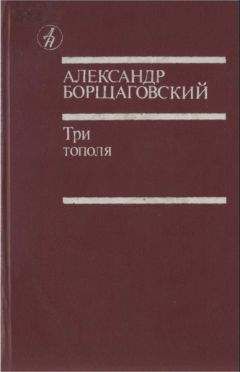— Другие я уж подкинула и тебе верну, со всем светом будем квиты, никто на Вязовкина и в мыслях не погрешит. — Она поднялась, затеребила из-под Капустина кофту, вскинула ее высоко, то ли отряхивая, то ли подавая знак Ивану. — Побегу на ферму, а ты покидай, самое время… А то иди, Ваня даст рыбы. Неужели учителю не даст?
— Не побираться же мне, Александра.
— Место у Ивана хорошее, прямо на ряжах, другой туда и трезвый не заберется. — Она сняла косынку, тряхнула потускневшими, подзавитыми волосами: они придавали лицу что-то заурядное, даже глуповатое. — В Рязани на слете была, битый час в кресле у парикмахера просидела. И стриг меня и красил, только что песни не пел.
— Надень косынку, — сказал Капустин. — И не снимай, пока не отрастут.
— Была печаль! — Мелькнувшие было в глазах огорчение и обида отступили; добро, что учитель хочет видеть ее прежней, а моды ему не понять, хоть и ученый; что с мужика возьмешь? — Они у меня быстро растут, ночью прямо слыхать.
Она побежала к ферме, не оборачиваясь, крупная, сильная, с болтающейся на плече кофтой, и быстро скрывалась с глаз. Капустин стоял у воды, подняв спиннинг, а Саша бежала поверху, и травянистый бугор зеленой волной закрывал ее, не плавно, а рывками, с какой-то намеренной торопливостью.
По плотине Капустин шагал быстро, будто только еще спешил на рыбалку, к заветному месту. Издалека приметив его без рыбы, Воронок укрылся под каменным устоем, чтоб не задевать учителя расспросами: рыбы и у него не прибавилось с ночи. Никому не было дела до Капустина, — подход голавлей всех взбудоражил. На правом берегу дело шло к драке: продремавшие на устое пришлые рыбаки никого не подпускали к «печке», пытались завести в нее капроновую сеточку с привязанным камнем: бурлящая вода сминала ее, скручивала, выталкивала вверх и утягивала книзу, будто вываривала в крутом кипятке. Медную сеточку шлюзовского водолаза они выкинули, отказались сложить разбросанные ими дубовые щиты, похвалялись сбросить щиты в реку: трое пришлых не могли ловить с плотины — у них ни пенопластовых больших поплавков, ни чиликанов — и с завистливой злобой, с обидой на белый свет наблюдали, как берут голавлей молчаливые, хорошо приготовленные к речной страде рыбаки.
У электростанции перед Алексеем возник Митя, поднялся с тележки с железными, вросшими в землю колесами.
— Не кидал? — спросил мальчик: учитель без улова, теперь скажет, что спиннинг виноват, был добычливый, а в руках Мити испортился.
— Только и радости, что оборвался, — легко признался Капустин. Он опустился на тележку, протянул спиннинг Мите. — Спиннинг в порядке, рыбак сплоховал.
— Зачем в «тихой» бросал? Там сеть стоит.
Так и есть, Воронок и тут побывал и, сочувствуя, ославил его на всю реку.
— Воронок сказал: три блесны у тебя накрылось. — Капустин не возражал: три так три, Яшка одну оборвал, вторая пропала бы, если бы Яков не сплавал, не отцепил, а третью ему же и подарил, выходит — три. — Инженера коломенского видел? Не видел… — У Мити отлегло от сердца. — Мы с Иваном приметили тебя, когда ты с Александрой стоял. Тебе бы кидать, а не лялякать! — строго заметил Митя.
По зеленому холму, за конторой шлюза разбредались десятка два хозяйских коров, высоко в тополях и липах пели иволги, мир пробуждался, оживал, только серый корпус электростанции смотрел мертво и глухо.
— Станция давно стоит? — спросил Капустин.
— Накрылась станция! Все! Концы! — ожесточенно воскликнул Митя. — Нас к сети подключили. — Он грустящим взглядом охватил бетонный утюжок, с подтеками давней побелки. — Тебе не жаль?
— Жаль… — отозвался Капустин.
В этом они были ровня: оба сызмальства привыкли гордиться станцией. На всей Оке, а им казалось, и на целом свете не было ни такой плотины, ни такой станции, а строили их деды и отцы. Каждому хоть раз довелось заглянуть в храмовую строгость рабочего зала, поразиться его высоте, машинам, устрашающему гулу, шелесту приводных ремней, керамической плитке, холодившей ступни в летний зной.
— Давеча ворота открывали, не скоро открылись, ржавеют, — сказал Митя. — Двое работников остались: техник и сторож. Ни за что деньги гребут — чего тут сторожить! Пускали бы ее летом, вода даровая бежит…
— У Прокимнова на ряжах был? — Капустин поглядывал на стремительный поток, посреди которого сидел муж Саши, накрыв ряж так, будто располагался прямо на воде.
— Гонит меня Иван, говорит, утону. — Синие немигающие глаза упрямо смотрели на торчащие из воды вершинки свай, Митя мысленно примерялся к ним. — Я там лавить буду… и пройду и брошу.
Муж Вязовкиной будто почувствовал, что говорят о нем, положил на колени спиннинг и призывно помахал кепкой. На темном лице сверкнули в улыбке зубы.
— Тебя зовет? — спросил Капустин.
— Тебя! — ревниво сказал мальчик. — А ты не ходи: ему бы только посмеяться, как ты окунешься. Все он лыбится, а сам хитрый.
Прокимнов достал сигарету и спички из нагрудного кармана и закурил, выжидая. Надо идти, сбросить с себя неловкость, скованность, глупое чувство вины.
— Ты полови, а я пойду. Ничего со мной не случится.
Ряжи обнажились, когда стала электростанция. Сваи тянулись сдвоенным редким строем, под водой их вязали короткие бревна, и в эти зеленоватые, склизкие срубы набит камень. Прежде река сшибалась здесь с яростным, кинжальным, вырывавшимся от турбин потоком и все закрывала дыбящаяся вода. Теперь Ока напористо, широко неслась вдоль ряжей, охлестывая и сбивая с ног рыбаков. По осклизлым, укрытым летящей водой бревнам, упираясь спиннингом в камни, можно было добраться до крайних свай и, сидя на тычке, забрасывать в простор реки.
Поначалу Капустин двигался легко, вода в ближних срубах плескалась не сильно, камень положен высоко, только намокли кеды и стесняла мысль, что Саша могла исповедаться перед мужем, чтобы не жить в обмане и лжи. С каждым шагом навстречу Ивану, который наблюдал за ним, Капустин укреплялся в этом подозрении, но не досадовал на Сашу, словно так было назначено судьбой и надо пройти через это. Мелькнула мысль о Кате; она спит в амбарчике, пока он балансирует на скользких бревнах, идет виноватый к Ивану Прокимнову, которого когда-то поднимал с парты, наперед зная, что встретится с его загадочной и раздражающей ухмылкой. И чем хуже Иван знал урок, тем ожесточеннее становилась ухмылка, словно издевка и над собой и над учителем, который зря старается и на что-то еще надеется. Теперь ученик вызвал его к доске, щурил бархатные, цвета темного каштана, глаза под густыми бровями, поспешно докуривал сигарету, будто готовился прийти на помощь Капустину.
Намокли синие тренировочные штаны с голубым лампасом, закатанные под колени. Капустин соскальзывал с бревен, хватаясь руками за ряж: Прокимнов был близко, но не спешил помочь, далее спиннинга не протянул.
— Здравствуйте! — Прокимнов подал через сруб смуглую, плотную и неожиданно теплую руку. — Сеть уберем, зря она в «тихой» мокнет. — Он еще задержался с броском, растянул чернильно-темные губы в нагловатой ухмылке. — Весной там щука водилась, а теперь… Неделями не смотрим.
— Чем вы теперь заняты, Иван Сергеевич?
Рука, медлительно наматывавшая леску, дрогнула: странными показались величание и вопрос, будто не без хитрости.
— Рыбачу…
— Где работаете?
— Александра не сказала? — Он усмехнулся резко, оскалясь, и повел сощуренными глазами по левому берегу. — Уязвила Сашку моя должность! Жена на весь район гремит, а я конюх при больнице. Конюх! — повторил он с вызовом. — Удобно: ночь моя, с восьми выхожу, потом в конюшне отосплюсь.
Бросок у Ивана щегольской — легкий, кистью руки, так что и плечо не пошевелится, и снасть он ведет лихо, с игрой, одной, повторяющейся дорогой, где рыба брала и вчера, и неделю назад, и возьмет через год.
— По привязанности выбирали? Лошадей любите?
Иван промолчал, только забросил ожесточенно и далеко.
— В школе у вас к механике склонность была. Я вам ради этого таланта грехи по литературе прощал.
Иван посмотрел на него долгим, вспоминающим взглядом, потом расплылся в улыбке, и Капустин подумал, что улыбка эта, вернее ухмылка, не наглая, а защитная, бесхарактерная.
— Лошадей пусть ветфельдшер Федя любит! — Он повысил голос: — Гнать меня стали с работы, ясно? — В голос засмеялся, и в смехе его крылась та же беспечность, прямота и надежда, что жизнь не кончилась, все образуется, все, что слышалось и в Сашином «была печаль». — Уж я намастерил! Сначала на радиопункте, потом в электриках побегал. На столб в кошках надо и с поясом, а я раздетый лез, в трусах. Чудил с пьяных глаз… А лошадь добрая, она и меня стерпит. Ее в овраг не завалишь — не трактор.
— Вы при одной лошади?
— Ну! Откуда в больнице вторая? Ее и одну зимой чуть ли не на шлеях держали. Доктора сена не запасли. Этим летом сам накошу, обожрется без меня… Я в колхоз вернусь, председатель трактор обещал. Надо пить бросить! — сказал он с оттенком малодушной тоски. — У Пантрягина и без меня пьющих хватает.