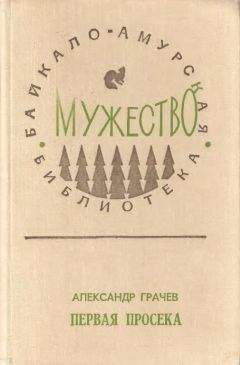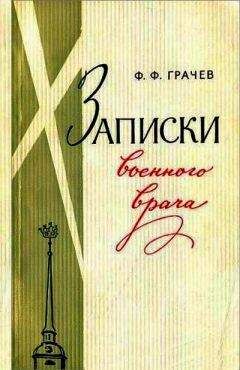— Как решим, товарищи? — обратился Каргополов к пассажирам.
— А чего же тут решать? — ответил кто-то. — Надо идти к начальству и просить машину до Комсомольска.
— Да, пожалуй, иного выхода нет, — согласился Каргополов. — Пойду я.
Вернулся он незадолго до заката солнца. К вечеру мороз стал крепчать, задул пронизывающий ветер, и все в автобусе изрядно продрогли.
— Утешительного мало, товарищи, — залезая в автобус, объявил Каргополов. — Свободной машины нет. Но ночлег дают.
Навьюченные поклажей, уныло тянулись неудачливые пассажиры по разбитой дороге вслед за Каргополовым.
И вспоминалась Ивану весна 1932 года, когда они вот так же вереницей, с пожитками на плечах шагали на Силинку сплавлять лес. Прошло всего три с половиной года, а как преобразилось все кругом! Нет больше таежной глухомани, медвежьего царства, к жизни вызван огромный район. В конце концов, правильно, что и труд преступников облагораживает землю, включен в общий труд страны. Тяжелые условия, дикость тайги и болота? Но ведь и он, комсомолец Иван Каргополов, начинал свой путь на Дальнем Востоке ничуть не в лучших условиях.
Встретил их немолодой боец с винтовкой и малиновыми петлицами.
— Мне приказано сопроводить вас до помещения, — доложил он Каргополову.
Обогнув угол насыпи, на краю которой в длинный ряд стояли ручные тачки, все увидели три приземистых подслеповатых, но ярко побеленных барака. Их ограждал дощатый, тоже выбеленный забор с нитками колючей проволоки поверху и сторожевыми вышками по четырем углам. Вне ограды одиноко возвышался довольно просторный дом с большими окнами, за ним виднелась конюшня, вереница телег. Было безлюдно. Сопровождающий боец привел их в дом, сказал:
— Будете ночевать все вот в этой комнате. Без разрешения дежурного не выходить.
В комнате хорошо натоплено, но нет никакой обстановки, если не считать двух замызганных топчанов. Один из них предложили Каргополову, другой занял Аниканов по собственной инициативе.
Натрясшись за день в автобусе, все изрядно проголодались и потянулись к котомкам, к чемоданам.
Когда Аниканов вышел, кто-то из строителей сказал:
— Ну и жмот, видать, этот ваш «делегат»! Обратили внимание, как он ел? Ничего даже не выложил из чемодана, все по кусочку доставал. Боялся обнаружить запасы, гад. Взять бы сейчас да спрятать его чемодан.
— А что, братцы, ей-богу, идея! — воскликнул Каргополов. — Я сейчас устрою. Под моим топчаном какой-то брезент лежит, так я его туда.
Под общий смех он крякнул, поднимая аникановский чемодан, доволок его до своего топчана и засунул в темный угол, а сверху набросил брезент.
— А теперь давайте выйдем в коридор, — смеясь, предложил он. — Когда придет Аниканов, скажем, что, мол, убирали заключенные.
Так и сделали.
Увидев в окно Андрея, все разом закурили, загалдели, искоса наблюдая за ним.
Аниканов настороженно спросил:
— А почему это все вышли?
— Да там уборку делали заключенные, — отвечал Каргополов, отворачиваясь, чтобы не рассмеяться.
— Уже сделали?
— Ага.
Андрей торопливо пошел к двери, открыл ее.
— Товарищи, а чемодан мой?.. — Голос его сорвался.
— Что — твой чемодан?
— Где мой чемодан?! — Он повернул бледное лицо к гурьбе попутчиков.
— Мы же не сторожили его… Да и свои вещи оставляли, когда выходили.
— Украли! — крикнул Андрей. — Так и есть, украли! Пойду сейчас заявлю начальнику.
— И не вздумай, — мрачно, вполголоса посоветовали ему, — не заметишь, как тебе сунут нож в бок. Они на этот счет спецы, эти урки…
Не сказав ни слова, Аниканов захлопнул за собой дверь.
Когда все вернулись в комнату, были уже сумерки. Аниканов лежал на топчане в позе покойника и потерянно смотрел в потолок. Время от времени он тяжело вздыхал, морщился, словно от зубной боли.
…Утром всех разбудил радостный возглас Аниканова:
— Братцы, чудеса! Ну, прямо чудеса! Вернули мой чемодан!
— Ну и черт с ним, с твоим чемоданом! — полусонно проворчал Каргополов. — Не мешай людям спать…
Отряд военизированной охраны под командованием Ставорского бдительно нес службу. Гайдук не пропускал ни одного праздника, чтобы не отметить в приказе высокой дисциплины и образцовой службы отряда и чтобы его командиру не объявить благодарность «с вручением денежной премии». Любил Гайдук свое детище — военизированный отряд, в чести и почете держал его боевого командира!
Жаловал своих подчиненных и сам командир отряда, особенно Архипа Рогульника.
Послужной список Рогульника был испещрен благодарностями. Иные бойцы с такими же списками давно были повышены в должности — стали командирами отделений или помкомвзвода. Только Рогульник оставался до поры до времени без повышения. Почему бы?
— Грамотешки не хватает товарищу Рогульнику, — объяснял Ставорский, — а то бы я давно двинул его в отделкомы.
У Ставорского имелись свои соображения на этот счет. Рогульник был важнее для него в должности рядового бойца. Кто лучше постового может изучить охраняемый объект? За шесть часов дежурства можно пролезть и высмотреть все закоулки, все хорошо защищенные и наиболее уязвимые места. На всякий случай…
Ставорский назначил Рогульника на охрану важнейшего объекта — склада импортного оборудования. В этом складе хранились дорогостоящие приборы и аппаратура — ими были завалены широкие стеллажи.
Понятно, что Гайдук дал Ставорскому строжайшее указание охранять склад с особой тщательностью, установить там круглосуточный пост из наиболее проверенных людей.
Поэтому, составляя список бойцов на пост к складу, Ставорский одной из первых включил в него фамилию Рогульника. В приказе этот факт отмечался как мера поощрения «бойца-ударника».
Июль 1936 года был в Комсомольске сухим и жарким. Обычно месяц гроз и коротких шумных ливней, июль в тот год был знойным, безветренным, почти без дождей. Трескались бревна домов от жары, все заборы стали пепельными от пыли.
Рогульник, как всегда, заступил на пост в вечернюю смену, перед самым закрытием склада. Вот уж полгода несет он охрану на этом посту. По существующему порядку, прежде чем принять дежурство, он обходил все помещение, тщательно осматривал внутренние запоры и зарешеченные окна, проверял огнетушители и бочки с водой, и только после этого заведующий складом пломбировал дверь главного входа.
Вот и сегодня Рогульник с винтовкой на ремне и противогазной сумкой через плечо неторопливо шагал по многочисленным проходам между стеллажами, пока не очутился в дальнем конце пятидесятиметрового помещения, где по углам стояли бочки с водой и ящики с песком. При этом он время от времени незаметно поглядывал назад: не идет ли завскладом? Но тот, видимо, подбивал итоги дня и не казал носа из своей конторки.
В полутемном углу Рогульник торопливо расстегнул противогазную сумку, вынул из нее ребристую зеленую банку. Воровски озираясь, он сгреб песок с ящика, сунул туда банку и вновь сровнял песок. Из карманов и из-под пояса стал вытаскивать тряпье и набивать им опавшую противогазную сумку.
Обратно он возвратился той же неторопливой походкой, заглянул в конторку завсклада, коротко бросил:
— Все в порядке, можешь закрывать…
Прошло двое суток.
Два часа ночи. Город спит. Спит и Рогульник, повернувшись спиной к супруге.
Безмятежная тишина — мать покоя бродит по не застроенным еще пустырям, в чуткой, еще нежилой пустоте одетых в строительные леса новых домов, у подсвеченных ночными фонарями детских садов и школ. Отдыхают натруженные за день рабочие руки Захара Жернакова, Алексея Самородова, Степана Толкунова и сотен, тысяч их соратников. Наступит новый день, и они, эти руки, с новой силой сожмут топоры и мастерки, кайла и пилы, поручни тачек и рукоятки лопат: кирпич за кирпичом неотступно будут они растить стены большого, светлого дома для всех людей земли.
Не спит лишь бдительная охрана мехкомбината.
Да еще не спит сам командир бдительной охраны — Харитон Иванович Ставорский. Нет, он не занят важным делом, он просто лежит в кровати и при свете ночника листает книгу, то и дело отвлекаясь от нее, чтобы посмотреть на часы, которые громко тикают рядом, на тумбочке.
— Что за чертовщина, — бормочет он, — уже четверть третьего, а никаких сигналов!..
Вдруг тревожный, торопливо-прерывистый рев ТЭЦ: «У-у-у!.. У-у-у-у!.. У-у-у!» Тревога! Кажется, никогда еще этот могучий басовитый рев не был таким грозным в своем неистовстве, как сейчас, в этой покойной тишине летней ночи.
Словно подброшенный пружиной, вскакивает Ставорский с кровати, включает свет, и вот он — телефонный звонок: