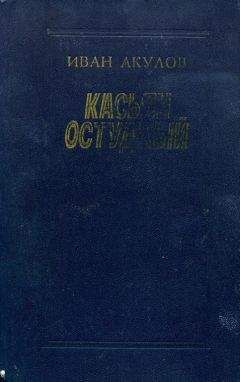А Харитон все смелел и смелел, настроившись на легкомысленную шутливость:
— А у нас, Елизавета Карповна, в селе тоже живет такая семья: он уж дед, а она вот, как вы, цветок ровно. Феней зовут. Так о ней говорят: на Фенины слезы глядючи и мужик заплачет. Это я к тому, что мы с вами одни…
Елизавета Карповна задула лампу и, встав с постели, заперла дверь на крючок. Харитон же, поворачиваясь на диване, не слышал этого и рассудил, что выждет, когда уснет Елизавета Карповна, и придет к ней. «А чего долго-то ждать. Помешкаю и пойду. Она все равно сонной сделается. Ихая сестра знает, как стыд прикрыть. Этому их не учить».
Поначалу Харитон в своих мыслях никак не мог отъединить ее от Семена Григорьевича. Глядя на нее и разговаривая с нею, он все время вспоминал и думал о нем, считая это самым важным. Она сама по себе для него не имела никакого значения. Но когда Харитон разглядел ее в спальне, когда вспомнил ее слова о том, что муж много старше ее и она любит злить мужа, и от него не имела детей, она заняла все его мысли, и ему, Харитону, уж больше не было жалко Семена Григорьевича, который не должен оставлять одну такую красивую и приметную людям женщину. «Живой о живом думает», — оправдал себя Харитон и пошел к дверям спальни. Он тронул их и не поверил, что они заперты, толкнул сильней — в петельке брякнул крючок. Харитон мгновенно угас, мучаясь от стыда и раскаяния, вернулся на диван, но не лег, а сел, обеими руками обхватил голову, и сумрачные мысли о доме, о жене, мысли, как бы ждавшие его отрезвления, живым и тяжелым укором легли ему на сердце.
Страна остро нуждалась в хлебе.
Урало-Сибирская зона осенью прошлого года собрала хороший урожай, и держателем хлебных излишков был не только кулак, но и середняцкая масса. Нужна была кропотливая разъяснительная работа с середняком, чтобы он поделился своими запасами с городом. В большинстве случаев труженик села участливо отзывался на голос рабочего, отсыпал из своих сусеков и без лишних выгод вез зерно на государственную ссыпку. Но кое-где ретивые заготовители, подогретые враждебным словом разбитой оппозиции, разговаривали с середняком на языке грубого нажима и даже угроз. В вышестоящие инстанции от мужиков пошли жалобы, а поток зерна из глубинки резко упал.
Чтобы метод безоговорочного изъятия хлебных излишков не сделался по деревням массовым, секретарь Омского окружкома партии ВКП(б) Филаков, знавший Сталина по туруханской ссылке, добился с ним телефонного разговора, а на другой день выехал в Москву.
Сталин скоро и радушно принял Филакова, с большой озабоченностью выслушал его и сказал:
— Подобные сигналы, товарищ Филаков, поступают и из других районов страны. Это тревожные факты, и вы хорошо сделали, что не поленились и приехали к нам. Вероятно, в практике кампании по усилению хлебозаготовок товарищи на местах допускают перегибы и отступления от линии партии, а это грозит дать отрицательный как экономический, так и политический результат. Этому надо положить конец.
Слова Сталина глубоко залегли в душу Филакова, и он, возвращаясь домой, знал, что с ретивыми заготовителями, которые хотят поссорить мужика с Советской властью, надо решительно бороться.
В Зауральске сибирский экспресс имел продолжительную стоянку, и Филаков пошел в ресторан перекусить.
— Костя! — окликнули Филакова, и тут же к его столику подошел большой и широкоплечий с обкатанными губами большого рта Сидор Амосович Баландин. Они обнялись. Сели. Пока удивлялись да охали, перронный колокол предупредил, что сибирский экспресс через пять минут отправляется.
— А ведь я, Сидор, везу такие новости, но рассказывать, извини, некогда. — Филаков мигал утомленными глазами. — Может, до Талицы моим поездом доедешь? А там на перекладных, по своей вотчине. У Сталина ведь я был.
— У тебя не поймешь, где правда, а где околесина. Неуж в самом деле?
— Говорю тебе. Пошли. В купе я один. Поговорим.
У почтового окошка Баландин отбил в Байкаловский райисполком телеграмму, чтобы ему подали лошадь к сибирскому экспрессу.
Колокол ударил три раза. Под окнами рассыпался свисток начальника поезда, и вагон дернулся. Внизу под полом что-то заскрежетало, начало бить по железу, поскрипывать и, наконец утихая и потрескивая, наладилось на деловое шипение, будто отдирали на клей посаженную парусину. Проводив резкие и громкие звуки, мешавшие говорить, Филаков стал рассказывать, утаивая в своих глазах живые искорки.
— Мы, Сидор, партийцы старые, и нам положено в зачатке видеть то или иное надвигающееся событие. Сталин сам озабочен: нельзя, говорит, обижать середняка. А у нас на местах есть такие, отца-мать распатронят.
Баландин нетерпеливо шаркал по полу своими тяжелыми сапожищами:
— Да ты, Костя, по порядку. Тебя это как на него вынесло? На самого-то?
— Давай о главном, Сидор. У тебя округ большой, и ни одной ошибочки не должно быть в разговоре с мужиком-трудягой. Сбиваешь ты меня немного. На чем я остановился? У нас, говорю, товарищ Сталин, местами до чего дошли — видят у мужика на окнах новые занавески — налог. Граммофоны, швейные машины обложили. До учителей добрались. Сталин, этот все думает. Облокотился на стол вот так-то и хмурится. А потом встал, прошелся по кабинету, остановился у окна и манит меня пальцем к себе. Вот, говорит, гляди, товарищ Филаков, вчера все газоны были по-весеннему зелены, а сегодня на них лежит снег. Что это, по-вашему? Отрыжка зимы, говорю. Вот именно. Именно отрыжка, товарищ Филаков. Оппозицию мы крепко пообщипали, но она дает о себе знать. Мы должны быстро распознавать всякого рода уклонистов и выводить их на чистую воду. Вот сейчас-де некоторые товарищи настаивают на обязательном займе для деревни. Мы-де выпустили двухсотмиллионный заем и хорошо разместили его среди рабочих и служащих. Надо-де провести теперь такого же рода заем специально для деревни. А чтобы крестьянин поверил этому займу и полюбил его, нужно сделать его более близким для мужика, заманчивым, можно-де, например, связать его с натуральными выигрышами. Шутка ли выиграть сельскохозяйственное орудие, швейную машину или сепаратор! Тут и я словечко вставил. Не пойдет, говорю, мужик на это дело, товарищ Сталин. Мужику, говорю, ситец нужен, керосин, мыло, а не лотерея. И я так думаю, товарищ Филаков. И Центральный Комитет так же думает. Вообще-то заем, говорит, делу не помеха. Игроки всегда найдутся, но зачем его делать обязательным. Раз обязательный, тоже опять и выйдет: ты, мужик, дай нам хлеб, а мы тебе бумажку, авось каток ниток выиграешь. Опять и толкнем деревню в руки спекулянта. Вроде бы и хороший шаг — заем, а видите, куда рассчитан. Потом опять походил он по дорожке, а я все стою у окна, походил и — ко мне. Подошел. Ничего, говорит, возвратный снег весны не остановит. А хлеб-де у середняка надо брать, но на почве союза. А перегибщиков и всяких извращенцев, которые волей-неволей скатываются в болото уклонистов, убирать от всякого святого дела. Да ведь они, говорю, товарищ Сталин, эти перегибщики, не переведутся, пока от низовых работников не перестанут требовать усиления хлебозаготовок. Взятые темпы хлебозаготовок снижать не следует, товарищ Филаков. Это наша общая победа, но методы разверстки, обязательных займов, нажима на середняка — все это должно быть решительно исключено. М-да, тяжело вздохнул он, хлеб, хлебушко — всему корню дедушко. И задумался опять. Умолк. А подумав, вроде бы собрался с силами, заметно приободрился. Нам, сказал, нам, товарищ Филаков, что крестьянин, что рабочий — пальцы одной руки: какой ни укуси, тот и больно. Взять да съесть хлеб, ума много не надо. И правильно-де товарищи с низов сигнализируют нам, что пришла пора говорить с мужиком на равных. Это я, Сидор, слово в слово запомнил. Надо позаботиться, чтобы в стране была такая обстановка, при которой хлеб не выедался бы. Значит, надо расширять посевы. А если мы за каждый пуд будем брать мужика за горло, как учила оппозиция, мужику ничего не составляет свести весь свой посев до огородных размеров. Это в лучшем случае. Вот тогда нам воистину будет хана. Пока нет машин, надо терпеть и ладить с мужиком-хозяином. Самый лучший заем не заменит нам деловой экономической спайки города и деревни. Значит, с деловой частью деревни надо устанавливать и крепить связь. Бедняцкие хозяйства, говорит, мы освободили от налогов, но не освободили от долга перед землей засевать свой клин. Это тоже, говорит, важнейшая для нас и задача, и забота. Тут я ему, Сидор, и высказал, чем мучился. Думаю, пусть знает, а уж там как бог даст. Мы, говорю, на местах примерно так же маракуем: расширять посевы, помогать бедняку, не обижать мужика. А на деле-то не всегда выходит так. «Что вы хотите сказать этим, товарищ Филаков?» — гляжу, брови свои сдвинул, усы опустил, как-то подобрался весь. Но меня, Сидор, уже несло. А вот, говорю, товарищ Сталин, надо прекратить разделение деревни единым законом. А то у нас как — чуть собрал хлебушка побольше, — жильный, за глотку его. А бедняка, с пустыми наделами, зачастую лентяя и лежебоку, пригреваем, на прокорм берем. А в итоге, говорю, поверьте, товарищ Сталин, — вот так и сказал, поверьте, говорю, что в деревне появляется тенденция к повальному обеднячиванию хозяйств, потому как каждому мужику легче ласка, чем таска. С пустыми-то, говорю, амбарами мы социализм вряд ли построим. Нужно, стою на своем (Филаков сжал кулак и утвердил его на маленьком вагонном столике), нужно, говорю ему, издать декрет, по которому запрещалась бы бедность в деревне.