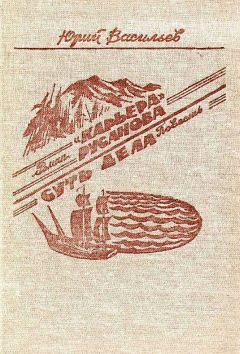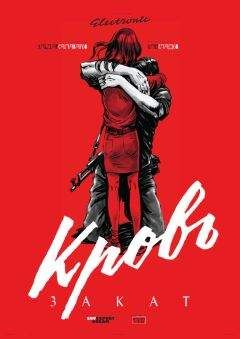Из кабинетов в коридор потянулись люди. Заговорили разом: «Безответственная болтовня, дешевка!»; «Самую суть выложил! Я обеими руками голосую, сколько можно починов выдумывать, работать надо, а не бороться!»; «Мы тоже хороши! Предлагаю лозунг: на трибуне, как в курилке! В полный голос. А то между собой горло дерем, а на собрании — шепотом!»; «Слушайте, а кто ему разрешил? Если разрешили, значит — наверху такая установка? Чего же нам тогда голову забивают?»
«Он сам себе разрешил! — хотел крикнуть Гусев, сбегая вниз по лестнице. — Принял огонь на себя! Ничего не понимаю! Конспиратор доморощенный, ты у меня сейчас… Калашников, интересно, жив или Калашникова удар хватил?» — И столкнулся с ним нос к носу.
Глаза у того были белыми. «Может, они всегда такие, я просто не замечал?» Он хотел проскочить мимо, но Калашников загородил дорогу.
— Дорого это вам обойдется, Гусев, — сказал он, глядя в сторону. — Ты даже не представляешь себе, как дорого. Потешили вместе с Черепановым народ — и все? Партийную принципиальность проявили? Не нужно считать нас дураками. Не нужно!
— Каленым железом! — выпалил Гусев.
— Железом? — растерянно проговорил Калашников.
— Ну да! Каленым! Выжигать нас надо. Слова подсказываю, а то ты небось дар речи потерял… Я же русским языком намекнул: надоел ты мне, Калашников, до смерти!
Черепанова он нашел в инструменталке — тот, согнувшись, шарил по стеллажам.
— Безобразие! — как ни в чем не бывало сказал он. — Никакого порядка!.. Ну, рассказывай, как нас там разоблачили? Громкий крик был? Горанин, наверное, рвал и метал? Ничего, Володя, отобьемся! Главное — спина к спине.
— Я думаю, на фоне твоей блистательной речи все и думать позабыли о таких мелких шалостях… Понимаю, ты с самого начала решил повернуть по-своему, а я, выходит, ни при чем? Я — стороной? Меня ты мог об этом предупредить?
— Не мог, Володя. Ты же рохля. Погоди, не задирайся… Ты — мягкий, добрый человек, одержимый заботой о ближних; я — человек жесткий, одержимый серьезным делом. Ты бы меня просто не понял. В чем я должен был тебе признаться? В предательстве? Ты просишь, чтобы я пошел на компромисс… назовем это так. Я соглашаюсь, и я же должен тебе сказать: знаешь, Володя, у меня тут за пазухой камень. Предательство? Чистой воды. Но оно, я знал это заранее, обернется нашей общей победой. Заметь — общей!
— Держи карман шире! Обернется… Ты сто раз прав, я — свинья, но говорить о победе… Я сейчас Калашникова встретил — так на него даже смотреть страшно! Плюнешь — зашипит!
— При чем здесь Калашников? Что это за фигура такая — Калашников? Нет ее! Есть объективная действительность, в которой самое главное — сделать беспроигрышный ход. И я его сделал. Просчитал все варианты, и не просто просчитал, а целенаправленно. Не понимаешь? Поймешь, не торопись. Следующий ход… Совет нужен?
— Давай…
— Освободи голову. Начисто. Никаких мыслей кроме той, что с завтрашнего дня ты снова сможешь работать на экспериментальном участке. Я по-прежнему в твоем распоряжении. А Балакирев потребует тебя к барьеру. Оклемается маленько и потребует. И схватится за голову — на этот раз от преклонения перед твоим творческим гением. Тут главное — не дать ему опомниться. Ты берешь его за руку и ведешь на участок, а там не музейный экземпляр штучной работы, а готовая к запуску машина. Радужные перспективы? Все! Иди домой и думай дальше — это твое главное предназначение. Я вечерком забегу…
«Думать дальше» Гусев ни о чем не мог, голова гудела, денек выдался — не приведи бог. Сейчас залезет в ванну и будет отмокать — душой и телом. Черт-те чего наговорил Сергей, оторопь от него берет, но в одном он прав — сейчас его может выручить только готовый экземпляр.
Оля разогревала ужин.
— Все знаю, папка, — сказала она. — Обо всем наслышана. Чижик приходил. Очень расстроенный.
— Недержание речи у твоего Чижика.
— Он тебе сочувствует.
— Еще бы! Солидный человек, а попался, как мелкий воришка. Да еще шайку, можно сказать, организовал. Представляю, как тебе за меня стыдно.
— Мне никогда не может быть за тебя стыдно. Слышишь? Заруби себе это на носу.
— Бедная моя сестра. Ей так и не удалось научить тебя вежливости. Хотя бы по отношению к отцу.
— Теперь уже не удастся… Но ведь ты будешь продолжать работу? Это не отразится?
— У меня нет выхода, ты же знаешь. Отразится, не отразится… Круто все завернулось, дочка.
Оля накрыла на стол; некоторое время они ели молча.
— Я понимаю, тебе сейчас не до меня, — сказала Оля. — Но тут такое дело… Мне, наверное, придется поехать в Слюдянку. Ты знаешь, где это находится?
— Я знаю, где это… А зачем тебе? — Он настолько еще был в сегодняшнем суматошном дне, что не успел удивиться. — Зачем тебе понадобилась Слюдянка?
— Потом объясню, это долгая история. Запутанная… Одну ты меня, конечно, не отпустишь?
— Конечно, не отпущу.
— А что же делать?
— Тебе обязательно ехать?
— Я сказала: наверное.
— Это очень срочно или это может подождать?
Оля вздохнула.
— Понятно. Что-нибудь придумаем, дочка. Погоди, посижу в ванне часок, может что и придет в голову. Как Архимеду. Договорились?
Неделю назад, когда Оля собралась отнести Липягину журналы. Чижик сказал, что у Ивана Алексеевича грипп и он категорически запретил приходить. «Категорически, — повторил он. — Понимаешь?»
— Не выгонит же он меня? Подумаешь, грипп.
— Выгонит. Ты его не знаешь.
Оля все-таки пошла. Дверь против обыкновения была заперта. Она отыскала длинную щепку, просунула в щель и откинула крючок. Он громко звякнул.
— Кто там? — спросил из другой комнаты Липягин.
— Это я, Оля.
— Ко мне нельзя, Оленька. Я же просил Валю всем передать.
— Иван Алексеевич, у меня сестра медик, я марлю взяла, повязку сделаю, ко мне никакая простуда не пристает… Ну, не идти же мне обратно через весь город?
— Идти, — сказал Липягин.
— Не пойду… Знаете что, давайте я вам что-нибудь приготовлю. Здесь, на кухне. И будем через дверь разговаривать. Чуточку только приоткроем, и все.
— Ты очень находчивый человек, — сказал Липягин. — Мне, голубчик, ничего не надо, я ведь не в лежку лежу. Передвигаюсь. Ладно, поставь чайник. Передашь мне стакан и будем вместе пить. Уговорила…
Это был такой хороший вечер!
В пятнадцать лет всегда хочется быть старше, чем на самом деле, умней, чем ты есть; хочется быть сдержанной, самостоятельной. Вот и теперь Оля завела было с Липягиным разговор об экстрасенсах — в городе появился какой-то чудо-лекарь, о глобальном изменении климата на планете — вычитала недавно статью в журнале, но умный разговор с Липягиным почему-то не клеился, и она очень скоро почувствовала себя обыкновенной ученицей восьмого класса… Как это, оказывается, здорово! Можно пожаловаться на учительницу математики, на Веру Черкашину, зануду и воображалу, лишенную, представьте себе, всякого музыкального слуха, можно вспомнить, как они нашли на даче старинные монеты, и тут, связав это с Ремизовым, она спросила:
— Иван Алексеевич, вы что-нибудь слышали о якутской Золотой бабе? Мои знакомые собираются ее искать. Не слышали? — Оля заглянула в комнату.
— Назад! — одернул ее Липягин. — Вот ведь… А заболеешь? Что мне Владимир Васильевич скажет? — Оля послушно вернулась на место. — Золотую бабу я сам когда-то искал. Но не нашел. Находить не обязательно, Оля, обязательно — искать… Подвинь табуретку к шкафу, там наверху подшивка «Русского следопыта». В одном из номеров как раз есть статья о «якутском феномене», как его называют.
Оля достала журналы.
— Можно с собой взять?
— Конечно… И поставь еще чайку. В буфете, в самом низу, стоит какое-то подозрительное варенье еще с прошлого года. Рискнем?..
Журнал со статьей о Якутской бабе она в тот же день отдала Ремизову, взяв с него слово, что он будет обращаться с ним бережно. Остальные журналы стала неторопливо перелистывать: до чего же любопытно! «Уроки практической хиромантии дает г. Страубе, магистр прикладной окультики». Мамочки! Жили же люди! Взял несколько уроков — пожалуйста, предсказывай будущее. А тут двадцатый век на дворе, спутников в космосе, как автомашин: уже и номера у них четырехзначные, а толком не знаешь, что с тобой завтра будет…
В одном из журналов лежали газета и несколько мелко исписанных листков. Наверное, чья-нибудь прабабка писала. Или прадедушка. Почерк — мелкий, бисерный — был на редкость разборчив: не шариковой ручкой писали, пером, в чернильницу макали. «Заглянем в прошлое, — сказала себе Оля, устраиваясь с ногами в кресле. — Какими заботами жили предки? Читать чужие письма — нехорошо, но это были уже не письма, а архивные документы далекой эпохи, для нее — чуть ли не берестяные грамоты.