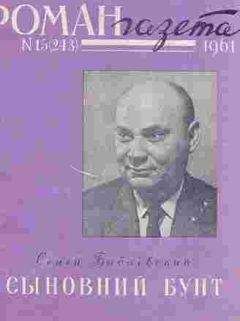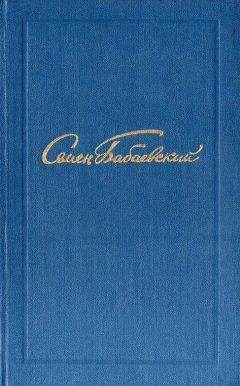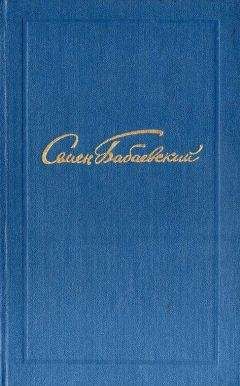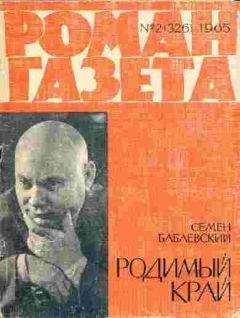Иван положил арбуз деду на колени. Дед Лука оживился. Смотрел в окно слепыми глазами и ладонями обнимал гостинец внука, поглаживая скользкую кору и ощупывая пальцами его круглые бока.
— Э! Кавуниха! — сказал он. — И рябая… Ну, Ванько, бери нож!
«Какие-у-него, оказывается, чуткие пальцы, — думал Иван, доставая из кармана складной нож. — Даже узнал, какой масти арбуз… Удивительно!» Иван резал небольшие ломтики, а старик, наклонив голову, обложенную вокруг темени белым пушком, прислушивался, как под острием ножа корка издавала хруст. Ел дед Лука охотно, деснами старательно давил сладкую и сочную мякоть. Сок, как слезы, капал ему на расстегнутую на груди рубашку.
Вошла Галина, остановилась на пороге и сказала:
— Слышу разговор… Думаю, и с кем это наш дедусь беседует?
— Внук Иван гостинец принес. Попробуй. Галя, такой сладкий кавунчик. — Дед Лука вдруг поднялся и, с трудом разгибая сухую спину и шлепая о пол босыми ногами, прошел в угол, где стояла его палка. — Ванько! Зараз пойду к тебе и погляжу, что ты там такое натворил…
— И куда вам, дедусь, — сказала Галина. — Вы же хворые, дедушка!
Галина сокрушенно покачала головой, посмотрела на Ивана, и ее улыбающиеся глаза говорили: погляди, Ваня, на этого самонравного старика… То лежал хворый, а теперь захотелось ему идти к тебе… Ну, что поделаешь — его не отговоришь.
— А я, внучка, не хворый, — сказал дед Лука, держа в руках палку. — Силов у меня, верно, не было, а зараз кавуном подкрепился… Галя, подсоби мне приодеться… И куда запрятали мои черевики…
Ничто Ивана так не удивляло в этом старце, рядом с ним шагавшем с палкой, как его жизнелюбие и то внутреннее сопротивление своим недугам, которые жили в нем. Все знали, что дед Лука очень стар; что жить-то ему, чего греха таить, осталось мало; что здоровье его с каждым днем слабело, и только сам дед Лука ничего этого, казалось, не знал и не хотел знать. И особенно Ивана радовал тот непотухающий интерес деда к журавлинским делам, который постоянно жил в нем. Лет семьдесят он играл на балалайке и теперь беспокоился, как бы Иван Лукич не забыл в Москве купить струны; так, бывало, беспокоился он об этом еще в молодости, когда у овцевода Гаркушина бегал подпаском за отарой. Только заговори с ним об овцах и о чабанстве, как старик сразу преображался, молодел, охотно вспоминал., как чабановал, и, казалось, готов был снова взять ярлыгу и пойти за отарой. Радовало и удивляло, наконец, то, что старик, будучи нездоров и слепой, не только спросил, как идут дела у Ивана, а сам пожелал посмотреть дипломную работу внука, и шел к нему охотно и с таким желанием, точно хотел оказать будущему архитектору неоценимую помощь…
Еще больше Иван и удивился и обрадовался, когда увидел, с каким не то чтобы интересом, а со странной жадностью дед Лука брал чертежи в руки и, ничего не видя, слыша лишь непривычный для его уха шелест, старательно ощупывал бумагу. И оттого, что не мог понять, что было изображено на этой шелестящей бумаге, лицо его кривилось, как от боли. Когда же его подвели к макету, лежавшему на столе посреди комнаты, произошло совсем неожиданное: дед Лука заулыбался, глаза загорелись тем блеском, который вызывает лишь нежданная радость. Старик считал, что бугорки, попавшие ему под ладони, внук наклеил на бумагу лишь затем, чтобы новые Журавли можно было распознать и без глаз. Пальцы его забегали по макету, и в эту минуту дед Лука со своей белой приподнятой головой был похож на старого пианиста, соскучившегося по инструменту: чуткие пальцы бегали по бугоркам, как по клавишам… И как знать, может быть, оттого-то и загорелись необычным огнем его слепые глаза, что те звуки, которых не мог услышать Иван, были слышны ему и волновали его душу.
Не отрывая рук и боясь, как бы макет вдруг не исчез, дед Лука спрашивал:
— Ванько, а это что?
— Жилые дома, — пояснял Иван. — Не землянки, а двухэтажные.
— А тут что?
— Это, дедусь, главная улица…
— А этот гвоздик?
— Водонапорная башня.
— А это?
— Парк… Здесь берег Егорлыка.
— А тут что?
— Котельная… Сказать, общая для всех Журавлей печь.
— Добре, добре, Ваня… А для старых людей есть домишко?
— Вот тут, чуть правее. — Иван помог старику нащупать дом для престарелых. — Тоже двухэтажный. На тридцать две комнаты.
— Это хорошо… Старых людей забывать грешно.
Темные послушные пальцы продолжали бегать по макету. Старик расспросил обо всем, потом отошел от стола, положил тяжелую руку Ивану на плечо и сказал:
— Люди примут… Помяни мое слово, Ваня… И еще спасибо скажут.
Дед Лука пробыл у внука полдня. Когда Иван проводил его домой, старик, усталый и обрадованный, улегся на свою низенькую кровать, вытянул болевшие в коленях ноги и тяжело вздохнул. Глаза его слезились, и он, закрывая их, казалось, плакал. И вдруг спросил:
— Ваня, так ты верно знаешь, что Гришка не замышляет рушить мою хату? Накажи ему, Ваня, пусть малость иогодит. Вот переберусь в тот дом, что ты смастеришь для старых людей, тогда пусть изничтожает мое кубло… Так и накажи…
Иван пообещал сказать об этом брату. Но он не знал, что Григорий договорился не с Аксеновым, а с плотником Сотниковым в понедельник ночью выломать стенку и поставить в землянку «Москвича». И так как Сотников, не в пример Аксенову, любил выпить, то по этому случаю уже был распит- магарыч. Пили в доме у Сотникова. Хозяин был весел, обещал Григорию в одну ночь выломать стенку и поставить ворота и взялся все это сделать быстрее и дешевле, нежели Аксенов. Особенно Григория радовало, что Сотникову не нужны никакие чертежи.
— Какие такие еще чертежи? — говорил он, подвыпив. — Настоящему мастеру не чертежи нужны, а голова на плечах да смекалистость… Правильно, Григорий Иванович?
Григорий опьянел раньше Сотникова. Покручивая усик, улыбался.
— Голова — это главное, — отвечал он, облизывая губы. — И я пойду к Ивану, плюну ему в очи и скажу: не нужны твои чертежи! Сотников без чертежей все свершит!.. Я к Ивану пойду… Он же меня намалевал. Ты слышишь, Сотников? Архитектор так меня размалевал, что страсть!
От Сотникова Григорий направился к Ивану. Открыл дверь и, опираясь плечом об откос, смотрел на брата пьяными глазами.
— Привет, архитектор!
Иван рассматривал чертеж дома и молчал.
— Не желаешь здороваться? Не надо… Но и не гляди на меня так удивленно. Верно, я немного выпил. Так что? Я пришел сказать, что на свете не ты, Иван, один умный! Есть и другие… Вот Сотников! Умнейший человек! А какой мастер! Ему все нипочем… Берет топор — рр-а-а-з! И никаких чертежиков, а все идет как по маслу… Шик! Чего хмуришься?
— Уходи, Гриша, не мешай работать.
— Не все сказал… Прекрати, Иван, насмешки! Где та паскудная голова, каковую ты изобразил? Где те мои ручищи, каковые вытянулись из окна? Изничтожь пакость при мне! Изорви бумагу, и я мирно уйду… Не желаешь? Тогда я сам! — Григорий шагнул к Ивану. — Да тут всю райскую житуху, что ты размалевал, надо изничтожить! Не морочь людям головы! Не корми сладкими пряниками!.. Ты должен знать, что люди бывают разные, а ты их всех ставишь в один ряд. Меня размалевал! Где та бумага? Подай ее сюда!
Тут Григорий потянулся к лежавшим на столе чертежам. Иван отстранил его руку. Тогда Григорий ногой ударил подрамник. Иван, сдерживая себя, молча усадил пьяного гостя на диван, как раз на то место, где вчера сидел дед Лука. Григорий вскочил и крикнул:
— Почему Настеньку свою не намалевал?! Живете тут по-скотски! Пакостники!
Иван весь передернулся и наотмашь кулаком с такой силой ударил Григория, что тот свалил стул и упал. Тяжело поднялся и, держась за подоконник дрожащей рукой, косил налитые кровью глаза.
— Чего с кулаками лезешь, бугай! — Григорий стоял, опираясь руками о подоконник. — Шуток не понимаешь… Слово тебе сказать нельзя, праведник… У-у! Зверюга!
— Можно, говори, — сказал Иван. — Говори, что хочешь, но Настеньку не трогай… И лучше всего, Григорий, уходи отсюда по-хорошему. Слышишь, уходи! А то я не посмотрю, что ты мне брат…
Покачиваясь и держась за стену, Григорий прошел к дверям. Остановился, пригладил усики, сказал:
— Уйду… Но запомни, мы еще схлестнемся. И вышел из комнаты.
На аэродром Ксения приехала минут за пять до того, как самолет, на котором прилетел Иван Лукич, двумя прожекторами рассек темноту и легко опустился на обсаженное зелеными огнями просторное поле. «Ну, и слава аллаху, что не опоздала, — думала Ксения. — А то был бы нагоняй». Иван Лукич, сходя по трапу, тоже увидел Ксению. Подошел к ней с чемоданом и свертком, положил вещи в машину. Радуясь тому, что стоит на земле, что перед ним Ксения, взял ее за руку и спросил:
— Давно ждешь, Ксюша?
— Часа два! — И она неестественно рассмеялась.